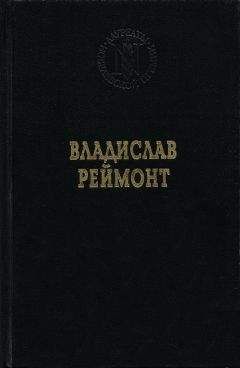Осталось только несколько самых близких знакомых.
Но Куровского он избегал сам: тот не мог ему простить того, как он поступил с Анкой, и при каждом удобном случае давал это понять.
Мориц Вельт окончательно опротивел ему, и видеться с ним не было никакого желания.
С Максом Баумом они тоже разошлись, хотя и встречались довольно часто, и тот даже был крестным отцом его сына, но в их отношениях сквозил холодок, и они держались скорей на старом приятельстве, чем на дружбе. Макс, как и Куровский, жалел Анку и не находил для Кароля оправданий.
И Боровецкий в последнее время все сильней страдал от одиночества и образовавшейся вокруг него пустоты, которую не могли заполнить ни изнурительный труд, ни богатство.
Душа его страстно, безумно алкала чего-то.
Он сам не понимал, что с ним. Знал только одно: дела, фабрика, люди, деньги больше не интересовали его.
Одолеваемый такими мыслями, пришел он как-то на фабрику.
В огромных каменных корпусах кипела работа, и они сотрясались от грохота.
Боровецкий с мрачным видом прошел по цехам; ни на кого не глядя, не здороваясь, не интересуясь ничем, он двигался, как автомат, и потухший взор его скользил по работавшим станкам, по прилежным сосредоточенным труженикам, по окнам, в которые заглядывало весеннее солнце. Он поднялся на лифте в сушильню, где на длинных столах, на тележках, прямо на полу были разложены для просушки миллионы метров тканей, и, с холодным бессознательным ожесточением ступая прямо по ним, направился к окну, за которым виднелись поле и полоска леса на горизонте; и залюбовался ясным апрельским деньком, пронизанным теплом, солнцем, дарующим ни с чем не сравнимую радость, засмотрелся на молодую изумрудную траву, на девственно-чистые облачка, плывущие в вышине по зеленовато-голубому небу.
Но овладевшая душой глухая, смутная тоска прогнала его прочь от окна.
И он снова отправился в странствие по цехам и корпусам; шел среди адского грохота, шума и гула работающих станков, невыносимой жары, бьющих в нос ядовитых запахов и постепенно замедлял шаг, сознавая, что все это его собственность, царство воплощенной мечты.
И, припомнив давние свои мечты о таком вот могуществе, горько усмехнулся и подумал, как глубоко заблуждался, когда, не имея за душой ни гроша, воображал, что богатство принесет ему необыкновенное, экстатическое счастье.
«А что же оно дало ему на самом деле?» — мысленно задавался он вопросом.
Что чувствовал он в царстве осуществленной мечты?
Усталость и опустошенность.
И безотчетную, беспричинную тоску, все сильней терзавшую его алчущую душу.
А там, за окнами красильни, в полях идет весна, сияет солнце, звенят детские голоса, весело чирикают воробьи, дым из труб розовыми облачками тает в небе; там все дышит бодрящей свежестью, первозданной чистотой, полнится светлой радостью возрождающейся природы, и хочется бежать на вольный простор, кричать, петь, кататься по траве, парить с облаками, лететь с ветром, раскачиваться с деревьями, — жить полнокровной жизнью, повинуясь велению сердца. Жить, жить!..
«Ну а дальше что?» — прислушиваясь к шуму фабрики, уныло спросил он себя и не нашел ответа.
«Я получил то, о чем мечтал, к чему стремился!» — с неукротимой яростью раба подумал он, глядя на красные кирпичные стены фабрики, на этого Молоха, который, злорадно поблескивая тысячью окон, работал с таким остервенением, что все содрогалось, и, ублажая его, гремел многоголосый хор машин.
Оставаться на фабрике было невмоготу, и он направился в контору.
Просители, коммерсанты, торговые агенты, чиновники, рабочие, ищущие места, с нетерпением поджидали его в приемной, тысяча дел требовала решения, а он, проскользнув в боковую дверь, не торопясь зашагал в город.
Скука и неизбывная тоска снедали его душу, и он ничего не замечал вокруг.
В городе, залитом потоками солнечного света, бурлила жизнь. С невообразимым шумом работали тысячи фабрик, напоминая своим видом неприступные крепости. Изо всех улиц, закоулков, из домов, даже с полей доносился гул ратного труда: надсадные вопли, торжествующие клики победителей, тяжелое, напряженное дыхание машин — всюду кипел бой не на жизнь, а на смерть.
Как все это ему надоело!
С нескрываемой насмешкой посмотрел он на проехавшего мимо барона Мейера; самодовольный, купаясь в лучах своего могущества, развалился он в роскошном экипаже, похожий на раздобревшего от золота борова.
«Скотина! Материальные блага для него важнее всего! Почему же мне богатство не в радость? Счастливцы!» — с завистью подумал он.
Увы, он не умел наслаждаться жизнью подобно лодзинским миллионерам.
Да и что могло привлекать его?
Женщины? Но он так много любил и был так любим, что пресытился любовью.
Развлечения? Но какие? Все они только отнимали силы, а взамен ничего не давали, кроме скуки, которая становилась еще нестерпимей.
Вино? Но чрезмерный труд подорвал его здоровье, и он уже два года был на строгой диете и ничего, кроме молока, не пил.
Окружать себя роскошью, кичиться богатством тоже было чуждо его натуре.
Наживать деньги? Зачем? Ему с лихвой хватало его доли доходов.
Разве он и так не был их рабом, разве не отняли они у него силы, самое жизнь? Разве не тяготили его эти золотые оковы?
«Да, Мышковский был прав, когда проклинал чрезмерный труд и бессмысленное накопительство», — подумал он.
И ему стало совсем грустно, когда он представил себе теперешнюю свою жизнь и впереди долгие, долгие годы, сулившие лишь тоску и душевные терзания.
Он шел, сам не зная куда, и неожиданно для себя оказался в хеленовском парке.
Он прогуливался по размякшим дорожкам и, словно видя впервые, пристально смотрел на зеленую траву, на молодые листочки, трепетавшие в пронизанном солнцем, еще не прогревшемся воздухе.
В пустынных аллеях с важностью прохаживались вороны да, нарушая глубокую тишину, с веселым чириканьем летали воробьи.
Он ходил до изнеможения, бессознательно возвращаясь туда, где когда-то встречался с Люцией.
— Люци… Эмма!.. — вполголоса произнес он и, печальным взором окинув пустынный парк, с горечью подумал, что никого не ждет и к нему никто не придет, не нарушит его одиночества.
Казалось, это было так недавно, но невозвратно!
Да, когда-то он жил полной жизнью, любил, увлекался.
А теперь?..
Теперь взамен бурной молодости он обрел миллионы и в придачу — тоску.
Презрительно усмехнувшись своим мыслям, он зашагал дальше.
Обойдя весь парк и на обратном пути у ворот пропуская вперед длинную вереницу девочек, которых сопровождали две дамы, он отступил в сторону и поднял голову.
— Анка! — невольно вырвалось у него, и он снял шляпу.
Да, это была она.
— Давно, давно мы не виделись! — Обрадовавшись встрече, она первая подошла к нему и подала руку, которую он с благоговением поцеловал.
Да, это была Анка, его прежняя Анка из Курова, молодая, красивая, полная сил, очарования и благородной простоты.
— Пойдемте за детьми, если вы не очень спешите.
— Откуда они взялись? — спросил он, понизив голос.
— Из моего приюта.
— У вас приют?
— Чем-то ведь надо было заняться, а эта работа приносит мне огромное удовлетворение, и теперь я хлопочу, чтобы мне разрешили открыть еще один.
— Вам приятно возиться с детьми?
— Больше того, я счастлива, что могу приносить хотя бы небольшую пользу, и вижу в этом свой долг. А вы… довольны своей жизнью? — тихо спросила она, и у нее задрожал голос при виде его осунувшегося, изжелта-бледного лица.
— Да… Очень… — поспешно, отрывисто ответил он, и сердце забилось так сильно, что трудно стало дышать.
Они молча шли рядом. Девочки свернули к пруду и тоненькими голосами затянули немудрящую детскую песенку, и она звенела, как серебряные колокольчики, шелестела, как молодые листочки и былинки.
— Вы так похудели… и такой… — не договорив, она опустила ресницы, чтобы скрыть слезы сочувствия.
Как любящая сестра, с болью смотрела она на его ввалившиеся глаза, выступающие скулы, на глубокие морщины и седину на висках.
— Не жалейте меня… Я получил то, чего хотел. Хотел разбогатеть и добился своего, а что богатство не принесло мне счастья, в этом я сам виноват. Да, я искал в «земле обетованной» миллионов, а не счастья, и сам себя обокрал, и винить в этом мне некого.
Заметив, что по лицу ее текут слезы и страдальчески подергиваются губы, он замолчал, не излив накопившейся в душе горечи.
Печаль переполнила его сердце, причиняя нестерпимую боль, и, чтобы не выдать себя, он пожал ей руку и поспешил уйти.
— Трогай! За город! — повелительно крикнул он, садясь на извозчика.
Из сокровенных тайников души, из темной глуби сознания нахлынули на него воспоминания, перед мысленным взором пронеслись светлые, возвышенно-прекрасные видения прошлого, и он задрожал от волнения. Силился удержать их, насытить ими исстрадавшуюся душу, забыть об убожестве теперешней своей жизни, но напрасно: на экране сознания с молниеносной быстротой замелькали иные картины, иные воспоминания; он вспомнил, как несправедлив был к Анке, сколько причинил ей горя. И сидел подавленный, опустошенный, прикрыв глаза, словно жизнь покинула его, и из последних сил старался подавить рвущийся из сердца вопль отчаяния, побороть внезапно вспыхнувшую при виде Анки неукротимую жажду счастья.