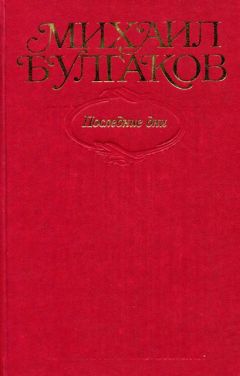Видно было только одно, что все три артиста, то есть замаскированный, клетчатый и кот, бесследно исчезли.
Погрозив Иванушке пальцем, фигура прошептала:
— Тсс!..
Иван изумился и сел на постели.
Тут решетка отодвинулась, и в комнату Ивана, ступая на цыпочках, вошел человек лет 35-ти примерно, худой и бритый блондин, с висящим клоком волос и с острым птичьим носом.
Сказавши еще раз: «Тсс», пришедший сел в кресло у Иванушкиной постели и запахнул свой больничный халатик.
— А вы как сюда попали? — спросил шепотом Иван, повинуясь острому осторожному пальцу, который ему грозил, — ведь решеточки-то на замочках?
— Решеточки-то на замочках, — повторил гость, — а Прасковья Васильевна человек добродушный, но неаккуратный. Я у нее ключ стащил.
— Ну? — спросил Иван, заражаясь таинственностью гостя.
— Таким образом, — продолжал пришедший, — выхожу на балкон… Итак, сидим?..
— Сидим, — ответил Иван, с любопытством всматриваясь в живые зеленые глаза пришельца.
— Вы, надеюсь, не буйный? — спросил пришедший. — А то я не люблю драк, шума и всяких таких вещей.
Преображенный Иван мужественно ответил:
— Вчера в ресторане одному типу я засветил по рылу.
— Основание?
— Без основания, — признался Иван.
— Напрасно, — сказал пришедший и спросил отрывисто:
— Профессия?
— Поэт, — неохотно признался Иван.
Пришедший расстроился.
— Ой, как мне не везет! — воскликнул он.
Потом заговорил:
— Впрочем, простите. Про широкую реку, в которой прыгают караси, а кругом тучный край, про солнечный размах, про ветер, и полевую силу, и гармонь — писали?
— А вы читали? — спросил Иван.
— И не думал, — ответил пришедший, — я таких вещей не читаю. Я человек больной, мне нельзя читать про это. Ужасные стишки?
— Чудовищные, — отозвался Иван.
— Не пишите больше, — сказал пришедший.
— Обещаю, — сказал Иван торжественно.
Тут пожали друг другу руки.
Пришедший прислушался испуганно, потом сказал:
— Нет, фельдшерица больше не придет. Из-за чего сели?
— Из-за Понтия Пилата, — сказал Иван.
— Как? — воскликнул пришедший и сам себе зажал рот, испугавшись, что его кто-нибудь услышит.
Потом продолжал тише:
— Удивительное совпадение. Расскажите.
Иван, почему-то испытывая доверие к неизвестному посетителю, вначале робко, а затем все более расходясь, рассказал вчерашнюю историю, причем испытал полное удовлетворение. Его слушатель не только не выражал никакого недоверия, но, наоборот, пришел в величайший восторг. Он то и дело прерывал Ивана, восклицая: «Ну-ну», «Так, так», «Дальше!», «Не пропускайте!» А рассказ о коте в трамвае положительно потряс слушателя. Он заставил Ивана подробнейшим образом описывать неизвестного консультанта и в особенности добивался узнать, какая у него борода. И когда узнал, что острая, торчащая из-под подбородка, воскликнул:
— Ну, если это только так, то это потрясающе!
А когда узнал, что фамилия начиналась на букву «W», изменился в лице и торжественно заявил, что у него почти и нет никаких сомнений.
— Так кто же он такой? — спросил ошеломленный Иван.
Но собеседник его сказал, что сообщить он этого пока не может, на том основании, что Иван этого не поймет. Иван почему-то не обиделся, а просто спросил: что же делать, чтобы поймать таинственного незнакомца?
На это собеседник расхохотался, зажимая рот самому себе, и только проговорил:
— И не пробуйте!
Затем, возбужденно расхаживая по комнате, заговорил о том, что заплатил бы сколько угодно, лишь бы встретиться с ним, получить кой-какие справки необходимые, чтобы дописать его роман, но что, к сожалению, он нищий, заплатить ничего не может, да и встретить его, этого… ну, словом, того, кого встретил Иван, он, увы, не встретит…
— Вы писатель? — спросил Иван, сочувствуя расстроенному собеседнику.
— Я — мастер, — ответил тот и, вынув из кармана черную шелковую шапочку, надел ее на голову, отчего его нос стал еще острей, а глаза близорукими.
Неизвестный тут же сказал, что он носил раньше очки, но в этом доме очков носить не позволяют и что это напрасно… не станет же он сам себе пилить горло стеклом от очков? Много чести и совершеннейшая нелепость! Потом, увлекшись и взяв с Ивана честное слово, что все останется в тайне, рассказал, что, собственно, только один человек знает, что он мастер, но что, так как она женщина замужняя, то именно ее открыть не может… А что пробовал он его читать кое-кому, но его и половины не понимают. Что не видел ее уже полтора года и видеть не намерен, так как считает, что жизнь его закончена и показываться ей в таком виде ужасно.
— А где она? — расспрашивал Иван, очень довольный ночной беседой.
Гость сказал, что она в Москве… Но обстоятельства сложились прекурьезно. То есть не успел он дописать свой роман до половины, как……….
— Но, натурально, этим ничего мне не доказали, — продолжал гость и рассказал, как он стал скорбен главой и начал бояться толпы, которую, впрочем, и раньше терпеть не мог, и вот, его привезли сюда и что она, конечно, навестила бы его, но знать о себе он не дает и не даст… Что ему здесь даже понравилось, потому что, по сути дела, здесь прекрасно и, главное, нет людей. Что же касается Ивана, то, по заключению гостя, Иван совершенно здоров, но вся беда в том, что Иван (гость извинился) невежествен, а Стравинский, хотя и гениальный психиатр, но сделал ошибку, приняв рассказы Ивана за бред больного.
Иван тут поклялся, что больше в невежестве коснеть не будет, и осведомился, о чем роман. Но гость не сразу сказал о чем, а хихикая в ночи и поблескивая зелеными глазами, рассказал, что когда прочел Износкову, приятелю редактора Яшкина, то Износков так удивился, что даже ужинать не стал и все разболтал Яшкину, а Яшкину роман не только не понравился, но он будто бы даже завизжал от негодования на такой роман и что отсюда пошли все беды. Короче же говоря, роман этот был про молодого Ешуа Га-Ноцри. Иванушка тут сел и заплакал, и лицо у гостя перекосилось, и он заявил, что повел себя как доверчивый мальчишка, а Износков — Иуда!
— Из Кериота! — пламенно сказал Иван.
— Откуда вы знаете? — удивленно вопросил гость, а Иван, отирая слезы, признался, что знает и больше, но вот горе, вот увы! — не все, но страстно желает знать, что случилось дальше-то после того, как Ешуа двинулся с лифостротона, и был полдень.
И что все неважно, и ловить этого удивительного рассказчика тоже не нужно, а нужно слушать лежа, закрыв глаза, про Ешуа, который шел, обжигаемый солнцем, с лифостротона, когда был полдень.
— За полднем, — заговорил гость, — пришел первый час, за ним второй час, и час третий, и так наконец настал самый мучительный — час шестой.
Настал самый мучительный час шестой. Солнце уже опускалось, но косыми лучами все еще жгло Лысую Гору над Ершалаимом, и до разбросанных камней нельзя было дотронуться голой рукой.
Солдаты, сняв раскаленные шлемы, прятались под платами, развешанными на концах копий, то и дело припадали к ведрам и пили воду, подкисленную уксусом.
Солдаты томились и, тихо ворча, проклинали ершалаимский зной и трех разбойников, которые не хотели умирать.
Один лишь командир дежурящей и посланной в оцепление кентурии Марк Крысобой, кентурион-великан, боролся со зноем мужественно. Под шлем он подложил длинное полотенце, смоченное водой, и методически, пугая зеленоватых ящериц, которые одни ликовали по поводу зноя, ходил от креста к кресту, проверяя казнимых.
Холм был оцеплен тройным оцеплением. Вторая цепь опоясывала белесую гору пониже и была реже первой, а у подножия горы, там, где начинался пологий подъем на нее, находился спешенный эскадрон.
Сирийцы пропускали всех граждан, которые желали видеть казнь троих, но смотрели, чтобы ершалаимские жители не скоплялись бы в большие толпы и не проходили бы с какой-нибудь поклажей, не учиняли бы каких-либо демонстраций. А за вторую цепь уже не пропускали никого. Бдительность спешенных сирийцев, повязанных чалмами из мокрых полотенец, во вторую половину дня была, в сущности, излишней. Если в первые часы у подножия холма еще были кучки зевак, глядевших, как на горе поднимали кресты с тремя пригвожденными и устанавливали громадный щит с надписью на… языке «Разбойники», то теперь, когда солнце уходило за Ершалаим, караулить было некого. Меж сирийской цепью и цепью спешенных легионеров находились только какой-то мальчишка, оставивший своего осла на дороге близ холма, неизвестная старуха с пустым мешком, которая, как она бестолково пыталась объяснить сирийцам, желала получить какие-то и чьи-то вещи, и двух собак — одной лохматой желтой, другой — гладкой запаршивевшей.