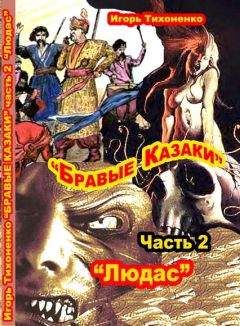Каждый раз он был недоволен собой, чувствовал угрызения совести, но ничего не предпринимал, чтобы выпутаться из этого ложного положения. После каждого свидания с Люцией, он вспоминал последний разговор с Ауксе. И словно живая струя вливалась в его сердце и укрепляла его решимость. Особенно ему запомнился тот момент, когда он признался ей, что целовал Люцию. Этим признанием он гордился, считая его первым шагом по пути к намеченной цели.
Действительно это был значительный момент, потому что он открыл Васарису, какое облагораживающее влияние оказывает любовь. До тех пор Людас жил одиноко, замкнуто, не чувствуя себя обязанным кому бы то ни было давать отчет в своем поведении или перед кем-нибудь открывать тайное тайных своей души. Правда, Васарис часто отчитывался перед своей совестью, но поскольку его поступки касались только его одного, он ни с кем их не согласовывал, все таил в себе и лавировал, руководствуясь только субъективными суждениями.
Подружившись с Ауксе и полюбив ее, Людас уже не раз чувствовал, что его уклончивое поведение не вяжется с прямотой и принципиальностью Ауксе и что одному из них придется уступить. Ведь для полной гармонии в их отношениях необходимы были полная искренность и откровенность. Кроме того, он увидал, что говорить неправду любимому человеку тяжело, что бремя этой лжи невозможно выносить долгое время и что правда всегда всплывает наружу. Полюбив, человек старается» быть правдивым, двойственность ему невыносима, он становится сильнее, прямодушнее и совершеннее.
Людас Васарис, признавшись любимой и любящей женщине в том, что он целовал другую, совершил подвиг, то есть сделал первый шаг на пути к совершенствованию. Ауксе оценила это признание, но справедливо рассчитала, что дальнейшее должно исходить не от нее, а от Васариса. Ведь если бы она продолжала оказывать на него давление, то он решил бы, что Ауксе так поступает из мелкой ревности, и она бы ему опротивела. Теперь же, когда они разошлись и ему грозила опасность совсем потерять ее, Васарис должен был убедиться, насколько она ему дорога, добровольно подчинить свое поведение требованиям любви.
Так и случилось.
Вскоре после отъезда Ауксе он начал тосковать по ней, вспоминал все их встречи, разговоры, споры и шутки. Он представлял себе Ауксе так живо, словно она была тут же, рядом. В мечтах физическое ее обаяние волновало его сильнее, чем в действительности. Золотистый отблеск ее волос, ласковый взгляд, весь ее облик, прикосновение руки и, наконец, поцелуй — все это казалось ему теперь недостижимым счастьем. Он искренне сожалел, что прежде мало интересовался ею и мало наслаждался ее обществом. Благородство ее души, ее доброта и тонкая прелесть, — все это теперь привело его к мысли, что совершеннее женщины он не встречал за всю свою жизнь и вряд ли встретит. Невозможность видеть Ауксе и общаться с нею его мучила.
Беспокойство его было тем сильней, что они расстались не как добрые друзья, уверенные в скором счастливом свидании, но как дипломаты, поставившие перед собой определенные задачи, от решения которых зависели их дальнейшие отношения.
Размышляя обо всем этом, Людас ощущал недовольство не только собою, но и Люцией, из-за которой был осужден на такое тяжелое испытание. Он нетерпеливо ждал экзаменов Витукаса, потому что только после них решил серьезно поговорить с госпожой Глауджювене и покончить с этой двусмысленной связью.
Да и очарование Люции уже несколько поблекло в его глазах. Его живое воображение, его артистическая натура требовала от женщины тонкого духовного содержания и отклика на все мучившие его конфликты, проблемы и вопросы. Меж тем Люция не интересовалась никакими проблемами — ни личности, ни нации, ни литературы, ни общественными. Их отношения были однообразны и редко выходили за пределы элементарной приятности.
Поэтому, если бы даже Ауксе не поставила резко вопрос о его отношениях с Люцией, они все равно бы рано или поздно оборвались, но тогда этот разрыв не имел бы для него такого морального значения. Теперь же ему приходилось бороться с собою, отказываясь от Люции. Он сознавал, что поступает так ради любимой, и это придавало ему уверенность в себе и еще больше сближало с Ауксе.
Наконец экзамены Витукаса благополучно закончились, мальчик поступил в гимназию, и Людас мог уже не ходить к Глауджюсам. Люция собиралась вскоре ехать в Палангу, и он готовился к решительному прощанию, потому что хотел покончить со всем этим раз и навсегда.
Позднее он так же долго вспоминал это прощание с Люцией, как и первое знаменательное прощание с ней, когда она приехала приглашать его на свою свадьбу перед его посвящением в иподьяконы.
В тот вечер Васарис позвонил Люции по телефону и, удостоверившись, что она одна и никого не ждет, пошел к ней. Люция, приказав по обыкновению горничной никого не принимать под предлогом, что ее нет дома, повела Васариса в гостиную. Витукас все еще не освоился со своим счастьем — ведь он был уже гимназист — и вертелся возле них, пока мать не пожурила его и не отослала спать.
Было жарко и душно в нагревшейся за день гостиной, но Люция заперла окно, потому что не выносила уличного шума. Зажигать свет было еще рано. Да и вечера в конце июня достаточно светлы, чтобы уютно посидеть вдвоем.
Люция удобно расположилась на диване и предложила Васарису место рядом, но он шагал по гостиной и курил.
— Садись же, Людас, разве ты не находился за день?
— Спасибо, Люция. Сегодня ужасно жарко, а на диване особенно…
— Ах, значит ты хочешь освежиться, шагая из угла в угол?
— Да, проветриваю комнату и вношу освежающую прохладу.
Таким полушутливым, полуироническим разговором они часто начинали свои вечера, но на этот раз Люция сказало раздраженно:
— От тебя и так весь вечер холодом веет. Сядь же наконец. Меня нервирует это метание.
Он придвинул кресло и сел. Некоторое время оба молча курили.
— Я думала, — заговорила Люция, — что мы проведем этот вечер, как старые друзья, а происходит что-то, похожее на сцену.
— Люция, — начал Васарис, — сегодня я хочу поговорить с вами искренне и серьезно.
— Для чего же это предисловие? Я не двадцатилетняя невеста, меня ничем не удивишь и не огорчишь.
— Тем лучше. Я хотел сказать, что с некоторых пор наши отношения, как они сложились за последнее время, очень тревожат меня, и я недоволен собою. Все-таки вы замужняя женщина, а я…
— Ксендз?
— Нет, дело не в этом. Но я хочу построить свою жизнь на иных основах. Сегодня я не смогу вам всего объяснить, но вскоре вы поймете.
Люция ответила не сразу, а когда заговорила, трудно было понять, что она чувствует — так спокойно и ровно звучал ее голос.
— Я предвидела, что наш роман этим кончится, только не думала, что конец наступит так скоро. Правда, я немного старше тебя, но еще не старуха. Значит, здесь замешана другая женщина. Хочешь, я назову ее имя?
— Не надо. И дело тут не в возрасте.
— Тогда сродство душ? Высокий интеллект? Конечно, этим я тебе импонировать не могу. Последние десять лет иссушили меня, приучили иначе относиться к жизни и требовать от нее иного, — с горькой усмешкой призналась госпожа Глауджювене.
Васарис не хотел ни утешать ее, ни возражать.
— Я уверен, — сказал он, — что в глубине души вы не одобряете произошедшей во мне перемены. Вероятно, было бы лучше, если бы мы вообще не встретились. По крайней мере не были бы так жестоко развеяны юношеские иллюзии.
Но Люция возразила:
— Наоборот, я довольна, что мы встретились. Теперь я хоть знаю, что все кончено и не о чем жалеть.
Эта трезвость не понравилась Людасу, и он с горечью сказал:
— Разве что так. А все-таки мне и теперь жаль наших встреч на Заревой горе.
— Ах, оставь в покое эту Заревую гору! — с внезапным раздражением воскликнула Люция. — Я могу подумать, что когда ты жалеешь о тех временах, то метишь в меня: вот, мол, какая ты была юная, красивая, веселая, чистая, а теперь стала старой, развратной ведьмой, которая покушается и на мою невинность. Вот как могу я понять твои сожаления.
Васарису стало нестерпимо стыдно за свои слова, но его удивило внезапное волнение Люции.
— Ну что вы выдумали, — защищался он. — Мне и в голову не приходили подобные мысли! Мне просто приятно вспоминать наше первое знакомство, юношескую идиллию, и только…
— А я в этих воспоминаниях не нахожу ничего приятного. Наоборот — одну горечь, разочарование и безнадежность.
— Не понимаю, почему? — изумился Васарис.
— Что тут непонятного? Ты думаешь, приятно сравнивать чистое, красивое прошлое с черным, грязным настоящим? Вспоминать юношеские мечты и сознавать полное свое банкротство? У кого жизнь обернулась так, как у меня, тому нечего умиляться воспоминаниями о девичьей чистоте.