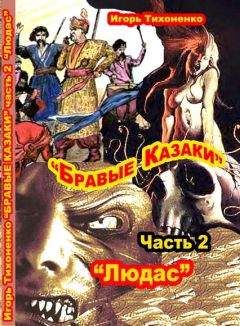Захоти он только, сейчас было бы самое время вернуться к прошлому! С Люцией он успел порвать, Ауксе же дала ему полную свободу и все предоставила на его усмотрение. Ауксе, правда, имела в виду только его отношения с Люцией, однако он-то знал, что его сан имеет огромное значение не только для него самого, но и для нее. Значит, нужно на что-то решиться. Иначе он не мог быть искренним с Ауксе и вообще не знал, как себя с нею вести.
Вот почему Людас решил провести свой отпуск в тишине и в уединении Ниды, где никто из каунасских знакомых не помешал бы ему обдумать этот вопрос.
Однако сначала надо было еще навестить родителей. В своих письмах они молили его вернуться домой и подольше погостить у них. Писали, что оба хворают и, бог весть, дождутся ли следующей весны. Людас отлично понимал, что сентиментальное настроение родителей обезоружит его, помешает сделать решительный шаг, но не откликнуться на их мольбу было бы слишком жестоко и гадко.
С тяжелым сердцем поехал домой Людас.
Он понимал, что является для родителей единственной опорой. Не будь его, жизнь казалась бы им пустой, лишенной смысла. Если бы он отрекся от сана, они считали бы, что это их вина, что на них лежит тяжкая ответственность за его грех. Людас также хорошо знал, что его мать винила себя за все проступки своих детей. Это она плохая, если плохи дети, это она не сумела воспитать их как следует, это она их родила такими и она отвечает за них перед богом. Она плакала, мучилась, ходила к исповеди, и никакими доводами нельзя было выбить из ее головы эти мысли.
И теперь она часто говорила Людасу:
— Если бы не вы, ксенженька, не знаю, что бы со мной и было. Теперь хоть тем и утешаюсь, что сын у меня ксендз. Когда умру, помолитесь за меня, отслужите святую обедню, может быть, смилостивится господь и надо мной, грешницей.
Для него эти слова были, как нож в сердце. Избегая дальнейших разговоров, он уходил в сад или в поле, и страшно становилось ему, когда он представлял себе, что будет с его матерью, если он отречется от сана. Большей муки для нее не придумал бы никакой палач.
Иногда же в сердце его поднималась ярая злоба против всего того, что воздвигало стену непонимания между ним и его родителями и так угнетало мать, что она и тени своей боялась. Он знал, что мать его была святая женщина, никогда никому не причинившая зла. Она отдавала все силы, чтобы примером собственной жизни, своим трудолюбием, молитвами и наставлениями спасти души детей. А могла ли бы дать ей эта жизнь хоть искорку радости, если бы она узнала, что Людас, ее надежда, идет гибельным путем?
Размышляя обо всем этом и в то же время присматриваясь к жизни крестьян, стараясь вжиться в их печали, заботы и чаяния, Васарис чувствовал, особенно после разговоров с матерью, что земля уходит из-под его ног, что центр жизни перемещается куда-то в сторону. Вся его решимость, планы и надежды отступали перед библейским: «Все суета сует». Он снова впадал в хандру, становился вялым и мрачно смотрел на будущее. Ему хотелось бросить в огонь все свои стихи, все рукописи, пойти к епископу и сказать: «Назначьте меня куда-нибудь в Шлавантай или Пипирмечяй. Пусть я там сгину, как жертва собственного заблуждения, на радость родителям, на благо церкви, к вящей славе господней».
Конечно, в таких душевных порывах была минутная искренность, но также и театральность. Однако, подобно тому, как волнуется и страдает актер, переживая чужую драму, так и Васарис глубоко страдал от своей собственной.
Наконец, когда наступил день отъезда, на сердце у него полегчало, словно он совершил трудный подвиг. Но и тут Васарис корил себя за то, что радуется, покидая опечаленных родителей, хотя и не Мог оставаться с ними дольше. Мать озабоченным взглядом следила за сыном, когда, снова переодевшись в пиджак, он уложил в чемодан свою сутану и, не утерпев, спросила:
— Что же вы там, в Каунасе, совсем не носите сутаны?
— Надеваю, мама, по воскресеньям, когда хожу в костел.
— Разве вы только по воскресеньям служите обедню?
— Кое-когда и в будни, но по большей части не удается. Приходится пораньше идти в гимназию, готовиться к занятиям.
— Разве не грешно так редко служить обедню?
— Нет, мама, не грешно. Ксендз обязан только раз в год отслужить обедню. Вот если он этого не выполнит, тогда уж согрешит.
Мать не верила своим ушам. Ей всегда казалось, что это учение у французов да у немцев могло сбить с толку ее ксенженьку. Теперь она опасалась, что так и случилось.
— Беда, беда, ксенженька. В книгах ведь написано, сколько милостей ниспосылает бог душам, которые томятся в чистилище, за каждую обедню. И про то написано, как ангелы радуются, что люди почитают бога, когда девять раз звонят на Sanctus[201], а при вознесении даров все падают ниц перед божьим величием. И на всей земле ни на минутку не перестают служить обедню. В одном месте кончают, в другом начинают. А если хоть на минутку прервется обедня, господь погубит весь мир за грехи людей. Только святая обедня сдерживает справедливый гнев божий.
Людас с самого детства слышал все эти рассуждения и знал, что мать не переспоришь и не переубедишь. Поэтому он стал утешать ее, применяясь к ее взглядам:
— Ничего, мама, приходских ксендзов на всей земле так много, что обедня никогда не прерывается. Тем, кто не служит в приходе, сам епископ разрешает в будни обедню не служить.
Но он видел, что мать это объяснение не утешило.
Вернувшись в Каунас, Васарис тотчас же собрался ехать в Ниду, потому что половина лета уже прошла, а ему надо было отдохнуть и вдали от людей серьезно обдумать свое положение. К тому же он хотел дописать драму.
Об Ауксе он ничего не знал и узнавать не старался. Сперва разрыв с Люцией, потом домашние впечатления словно вытеснили из его мыслей красивую американку. Но теперь она снова воцарилась в его душе и сердце.
В Ниде Васарис поселился на отшибе, в горнице у рыбака, ни с кем не встречался и целые дни проводил у моря, в сосняке или на дюнах. В первое время, когда он начал обдумывать вопрос о своем священстве, воспоминания о доме и целая вереница противоречий не давали ему вырваться из заколдованного круга, в котором он столько времени томился. Но постепенно он успокоился, мысли его посветлели, на сердце полегчало. Тем временем незаметно потускнел, исчез и самый объект его размышлений. Не осталось никаких вопросов, никаких проблем. Он хотел только жить, радоваться летнему солнцу, воздуху, морю, теплу, покою — и ничего больше.
Часто он отправлялся к поросшим низкими сосенками дюнам, уходил подальше от тропы и, найдя нагретую солнцем полянку, растягивался на ней, собираясь серьезно подумать — на что ему решиться по возвращении в Каунас! Именно в ту пору у него явилась мысль отказаться от поста директора католической гимназии.
Однако он ни о чем не мог думать. Растянувшись на песке, он прежде всего испытывал приятное чувство усталого человека, которому больше не надо двигаться и ощущать тяжесть собственного тела. Потом внимание его привлекали свист неизвестной птицы, разные подробности окружающей природы: большие и маленькие муравьи, ползавшие рядом по его коврику, необычайно длинное корневище сосны, протянувшееся через всю полянку, или же просто голубое небо, смотреть на которое ему никогда не надоедало. Никаких сложных вопросов в такие минуты он решать не мог.
Если же Васарис шел на взморье, в сосновый бор и на высокие лысые дюны, впечатлений было еще больше — здесь он тоже не мог распутывать проблемы своей дальнейшей жизни. Приблизившись к великой природе, пышащей обилием летней радости, он незаметно для себя сливался с ней, подчиняясь ее законам. А под летним солнцем не существует ни забот, ни проблем. Звучит один-единственный клич: живи и радуйся жизни!
Когда небо хмурилось, Людас по большей части сидел у себя в горнице. У него снова появилось желание писать. Он достал привезенную с собой драму и принялся править ее и заканчивать. Теперь он ясней представлял себе ее смысл, его собственные переживания помогли ему углубить содержание, более четко обрисовать характеры, усилить драматический конфликт, отделать язык и стиль. Он предполагал по возвращении в Каунас предложить пьесу драматическому театру и, в случае удачи, уйти из гимназии и покончить с обязанностями ксендза. Им овладела мысль, что только литературное поприще принесет ему освобождение.
Возможно, что эти, так благоприятно начавшиеся каникулы и кончились бы без особо сильных переживаний, если бы однажды вечером он не захотел взобраться на самые высокие дюны.
Васарис вышел на закате, после ужина, и, хотя прогулка обещала быть длительной, он не сомневался, что свет зари, а позднее луна будут достаточно ярко освещать дорогу и окружающий пейзаж. Иногда его непреодолимо тянуло побродить одному в романтической обстановке.