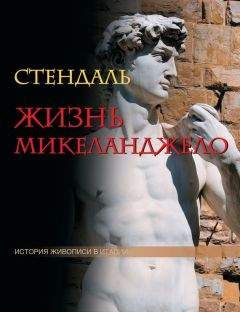— Это одновременно и полезно и приятно! — воскликнул маркиз де Тернозьер. — Если якобинцы поднимут бунт, можно будет, укрывшись в такой башне, продержаться там дней восемь или десять, пока из окрестностей не подоспеют жандармы. А в более спокойное время вид такого прекрасного сооружения будет наводить соседние замки на размышления.
Доктор постарался, чтобы в течение двух недель, а то и меньше, эту мысль повторили в присутствии герцогини по крайней мере двадцать раз. Она была бесконечно обрадована. То, что она не пользовалась со стороны соседних замков достаточным уважением, было для нее крайне неприятно, а скука, томившая ее до болезни Ламьель, была лишним мучением вдобавок к действительным или воображаемым бедам, которые, по ее мнению, отравляли ей жизнь. Всякий раз, когда во время прогулок один из этих замков попадался ей на глаза, ей становилось так больно, что она горестно вздыхала. Доктор, конечно, не преминул выпытать у нее причину этих тяжких вздохов и стал уверять ее, что они могут быть симптомом опасной грудной болезни. Больше месяца он размышлял по поводу восхищения, в которое привел г-жу де Миоссан успех ее башни. Собственно говоря, из всех страстей, которые ему приходилось в ней преодолевать, самой упорной была скупость. Он решил нанести ей решительный удар и как-то раз, хорошенько подготовив почву, воскликнул с видом глубочайшего убеждения:
— Согласитесь, сударыня, что вам замечательно посчастливилось: эта башня обошлась вам самое большое в пятьдесят или пятьдесят пять тысяч франков, а удовольствия она вам доставила больше чем на сто тысяч. Гордость окружающих вас мелкопоместных дворян вынуждена была наконец смириться; они воздают должное высокому положению, занять которое вы были призваны провидением. Так удостойте их приглашения на большой обед, который вы устроите по случаю открытия башни д'Альбре[18] (так назвали башню в честь маршала).
В течение уже нескольких месяцев доктор старался примирить окрестное дворянство с несколько странным нравом герцогини. Он распространял по всем замкам мысль, что мнимое высокомерие г-жи де Миоссан, так неприятно их поражавшее, было на самом деле не высокомерием, а лишь дурной привычкой, усвоенной в Париже, нелепость которой, впрочем, герцогиня уже начала чувствовать сама.
В ознаменование открытия башни герцогиня дала великолепный обед. В башне было пять этажей, и доктор настоял на том, чтобы накрыли пять столов, по столу в каждом этаже. Кухню соорудили в десяти шагах от башни в сколоченном из досок бараке. На соседней лужайке расставили столы для родителей учеников Отмара. Необыкновенное распределение хорошего общества по пяти столам, естественно, вызвало чрезвычайное веселье. Гости стали чувствовать себя еще свободнее благодаря тому, что герцогиня в первый раз в жизни по-настоящему любезно отвечала на обращенные к ней комплименты. Эта перемена была величайшим успехом Санфена. Не обошлось и без музыкантов, которые появились как бы случайно, когда стемнело и молодые дамы за всеми столами начали уже сожалеть, что хозяева не догадались закончить балом столь приятно проведенный день. Санфен бегом поднялся по лестнице к гостям и объявил, что у герцогини явилась мысль задержать труппу бродячих музыкантов, направлявшихся в Байё.
Разбросанные по лужайке деревья как бы случайно оказались иллюминованными, и начался бал для крестьянок. Гостиная пятого, самого верхнего этажа, была предоставлена дамам для перемены туалета, которой потребовал этот импровизированный бал. В течение получаса, ушедшего на переодевание, доктор Санфен объяснял окрестным дворянам, как совершенно неожиданно башню д'Альбре превратили в крепость, взять которую было не так-то просто.
— Ваши предки, господа, знали толк в военном деле, а так как каменщики в точности воспроизвели план старой башни, не подозревая, что готовят цепи для низшего сословия, они построили крепость, которая сможет послужить убежищем для всех порядочных людей, если когда-нибудь якобинцы вновь примутся поджигать замки.
Эта утешительная мысль дополнила приятное впечатление от праздника. Дамы танцевали с восьми часов до полуночи, а их мужья, увлекшись башней, лишь очень поздно спохватились, что пора закладывать лошадей. Танцы крестьян продолжались до утра. Доктор вскочил на лошадь и приказал выкатить на лужайку бочки с пивом, и даже с вином.
Этот день коренным образом изменил отношения между герцогиней и ее соседями; тогда же она перестала обращать внимание на то, как варварски обошлась природа с этим приятнейшим доктором Санфеном.
Ламьель глядела на праздник из кареты герцогини. Эту карету с поднятыми стеклами выкатили на середину луга. Герцогиня приходила раз двадцать справляться, не страдает ли ее любимица от сырости. Ее скупость, составлявшая главную ее страсть, была совершенно побеждена.
Через неделю после замечательного праздника в башне д'Альбре, надолго сохранившегося в памяти округа Байё, в Карвиль прибыл большой мебельный фургон из Парижа. Он был полон рабочих, обойщиков и всевозможных тканей для отделки замка. Обойщики восхитительно убрали все пять расположенных одна над другой комнат готической башни. Герцогиня, изгнав из своего сердца скупость, почувствовала в нем пустоту, которую попыталась заполнить пристрастием к излишествам: она уже мечтала о втором обеде.
Комната второго этажа, предназначенная для Ламьель, была прелестно обставлена, и Ламьель объявила доктору, что желает в нее переселиться. Напрасно он умолял ее на коленях не забывать, что комната эта, еще очень сырая, может повредить даже крепкой крестьянке, не говоря уже о ней, которая хрупкостью здоровья ничем не отличается от светской женщины. Ламьель была непреклонна. Тут доктор сообразил, что за пять месяцев благодаря ему у этой хорошенькой нормандки развилось тщеславие. До сих пор правым оказывался всегда он, и ум Ламьель должен был всегда подчиняться его уму. Осторожный доктор предпринял несколько опытов; теперь ему стали понятны капризы этого ребенка. «Вот уж и тщеславие и гордость, свойственные ее полу! — воскликнул он. — Мне нужно скорее ей уступить, чтобы не посеять в ее душе зародыш отвращения, которое может захватить лучшие годы этой очаровательной девушки, а овладеть ею в эту пору будет чем-то действительно приятным для такого обездоленного человека, как я».
В те дни, когда праздновали открытие башни, в деревушке, расположенной довольно близко к замку Миоссанов, умер кюре, и по рекомендации г-жи де Миоссан архиепископ Руанский передал этот небольшой приход аббату Клеману, племяннику г-жи Ансельм, домоправительницы герцогини, которая до приезда Ламьель пользовалась в замке неограниченной властью. Этот молодой священник был очень бледен, очень набожен, очень начитан; он отличался высоким ростом, худобой и чахоточным видом; при всем том у него был один жестокий для его сана недостаток, в котором он вполне отдавал себе отчет: помимо своей воли и вопреки всему, он обладал большим умом. Вскоре в силу этого ума, который между двумя возможными решениями заставлял его выбирать всегда лучшее, он стал, несмотря на свое низкое происхождение, неотъемлемой принадлежностью салона г-жи де Миоссан. Но сначала без особых церемоний ему дали понять, что раз уж ему в двадцать четыре года выхлопотали приход, приносящий по меньшей мере сто пятьдесят франков, то могут рассчитывать на его безграничное усердие. Герцогиня сводила молодого кюре в домик, где жила Ламьель. Он был поражен прелестью, заключавшейся в сочетании ее живого, смелого и широкого ума с почти полным незнанием жизни и совершенно наивной душой.
Например, как-то вечером, когда герцогиня собиралась сесть в экипаж, чтобы в обществе аббата Клемана провести вечер в домике Отмаров, принесли прибывший с парижским дилижансом огромный ящик, который аббат любезно открыл. Там был великолепный портрет, одна рама которого стоила несколько тысяч франков. Изображал он Фэдора де Миоссана, единственного сына герцогини, в форме воспитанника Политехнической школы.
Герцогиня, несмотря на ужас, который внушала ей вечерняя сырость, приказала опустить верх ландо. Ей обязательно хотелось показать этот портрет милой Ламьель; она как-то не решалась им восхищаться, не узнав сначала мнения прелестного существа, которое завладело ее сердцем. Войдя в комнату Ламьель, герцогиня принялась расточать самые неумеренные похвалы портрету. Взгляд ее между тем старался все время уловить, какое впечатление он произвел на ее любимицу, но та молчала. После многих околичностей, вызывавших Ламьель на ответ, герцогиня, потеряв наконец терпение, вынуждена была спросить у девушки, что она думает об этом лице. Ламьель любовалась отделкой рамы; на вопрос герцогини она едва окинула рассеянным взглядом изображение, а потом без всякой задней мысли сказала, что лицо этого молодого солдата кажется ей незначительным. Несмотря на скромные манеры и сдержанность, аббат Клеман расхохотался: уж очень неожиданна оказалась наивность Ламьель для того незначительного светского опыта, который он успел приобрести. Герцогиня, чтобы не рассердиться, а главное, чтобы не рассердить своей любимицы, почла за благо последовать его примеру. Эта очаровательная наивность удивила и восхитила бедного аббата Клемана, уже начинавшего задыхаться в атмосфере сплошной фальши, которую необходимо было поддерживать в маленькой башне. Сам того не подозревая, бедный аббат влюбился в Ламьель.