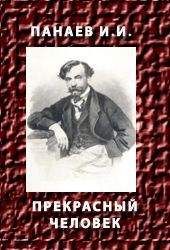С истинным почтением и совершенною преданностию имею честь быть вашим покорнейшим и послушнейшим сыном - В. Завьялов".
К концу письма руки Настасьи Львовны опустились, голова ее упала на грудь - и в таком положении минут пять она пробыла неподвижна; потом рука ее, державшая письмо, судорожно сжала его в комок; Настасья Львовна вдруг вскочила со стула, бросила письмо на пол, подбежала к своему туалету, открыла несколько ящиков и начала рыться в груде разных лоскутьев… Лицо ее, в этот раз не натертое пудрой, побагровело; в неподвижных и сверкающих глазах выразился бессильный гнев и безумное отчаяние… Она раскидала лоскутки, сама не зная зачем, на туалете и на полу, подняла письмо и побежала к мужу…
Матвей Егорыч лежал на кушетке в своем кабинете и дремал от слабости. Возле него сидела Маша. Настасья Львовна вбежала в комнату и громко захлопнула за собой дверь.
Старик вздрогнул и старался приподняться.
- Вот до чего мы дожили, Матвей Егорыч! - закричала она, кидая письмо, свернутое в комок, на стол, стоявший у кушетки. - Прочтите это письмо. Он мягко стелет, да жестко спать… И это наши дети, дети! - продолжала она громче и громче, смотря на дочь, - дети, на которых мы издерживали последние свои крохи, о которых думали день и ночь… Поди прочь с глаз моих, поди! вы все неблагодарные отродья, я не могу вас видеть. Мы нищие - и они не хотят подать нам гроша…
Маша в испуге вскочила со стула и прислонилась к стене.
Матвей Егорыч, не говоря ни слова, взял письмо со стола и, расправив его, поднес к глазам, - но зрение изменяло ему, он начал шарить рукой по столу, ища футляра с очками… С трудом надев очки дрожащими руками, он прочел письмо, сложил его, спрятал в карман своего сюртука и взглянул на жену.
- За что же вы так сердитесь на детей, Настасья Львовна? - спросил он ее тихо и спокойно, - нам грех жаловаться на наших детей: Маша - благонравная, добрая девочка; Владимир - прекрасный человек, с этим и вы всегда соглашались; о нем все одинакового мнения: начальство им не нахвалится, большая часть наших знакомых ставят его в пример своим детям… Письмо это написано им почтительно, с сыновнею любовию… Где же ему взять такую сумму, как вы требуете, если у него нет ее? Ах, зачем делали вы эти долги, Настасья Львовна? зачем вы скрывали их от меня?
- Так, так, я знала, что я одна останусь во всем виновата, что все это падет на меня одну! У него нет денег? - говорите вы. Нет? вы глупый, слабый отец, - вы готовы всему поверить; он скоро подавится деньгами, а знаете ли вы, что у нас не останется ни копейки, что мы умрем с голода, что все вещи мои продадут за неплатеж долга?.. А невестка, видите ли, вышивает мне ридикюль!.. Да я ее выгоню из моего дома вместе и с ридикюлем-то…
Из груди старика вырвался болезненный стон. Маша бросилась к отцу.
- О, ради бога, - сказала она, обняв отца и обращаясь к матери, - ради бога, папенька нездоров.
Матвей Егорыч, гладя Машу по голове, - это была любимая его ласка, - сказал жене прерывающимся голосом:
- Настасья Львовна, мне уж немного остается жить: я не обременю собой никого; но если бы бог определил мне еще прожить, то Маша моя накормила бы больного старика своего, она не допустила бы его до голодной смерти… Нет… мы виноваты против нее, Настасья Львовна, очень виноваты. Дети наши любят нас. Посмотрите на
Машу, - и он опустил свою голову на грудь дочери.
- Я несчастная, несчастная! все против меня!
И с ужасным криком Настасья Львовна выбежала из кабинета мужа.
Прошло полгода после этой сцены… Все заложенные в разное время Настасьею
Львовною вещи и серебро были удержаны ростовщиком с малиновыми щечками за неплатеж ему долга; отдавая мелочные долги из расходных денег, она дошла до того, что для ежедневного содержания своего семейства должна была закладывать в ломбард столовые ложки… Она перестала жаловаться на сына и в безмолвной боязни ожидала решения своей участи. В эти полгода она так постарела, что на ее лицо было страшно взглянуть. Матвей Егорыч лежал больной; у него не было денег на лекарства, - он послал за сыном.
В вицмундире, застегнутом на все пуговицы; как всегда скромный и почтительный, как всегда румяный, - только несколько возмужавший, - явился Владимир Матвеич к отцу и сел возле его постели.
- Каковы вы? Получше ли вам, батюшка? - спросил он у отца, целуя его руку.
Матвей Егорыч вместо ответа печально покачал головой.
- Как идет твоя служба, Володя?
- Слава богу, помаленьку, батюшка. Занятий столько, что не имею минуты свободного времени.
- Что делать? за то тебя награждают, дорожат тобой… Когда есть занятия, тогда веселее, мой друг, это я по себе знаю… Ну, а какова жена твоя?
- Немножко прихварывает, батюшка; впрочем, в ее положении это натурально.
- Да, уж, кажется, богу не угодно, чтоб я дожил до внучат…
- Помилуйте… почему же, батюшка? еще здоровье ваше поправится.
- Нет, друг Володя, не надо, чтоб оно поправилось, не надо… Мои дела очень расстроены - ты это знаешь: что ж будет хорошего, если я поправлюсь?.. Не думал я, Володя, дожить до такой нужды… Ну, да что ж делать? - видно, так богу угодно… Я просил тебя к себе… мне надобно поговорить с тобой.
- Что прикажете?
- У меня до тебя просьба, - и Матвей Егорыч взял сына за руку, - не оставь мать и сестру; у них нет никого, кроме тебя. Надо взять в расчет, что без тебя они пойдут по миру… - произнес он, глотая слезы и задыхаясь слезами.
- Помилуйте, это мой долг, - сказал Владимир Матвеич, расстегивая нижнюю пуговицу своего вицмундира и потупляя глаза. - Но к чему такие мысли, батюшка? вы себя этим расстраиваете.
- Так ты не оставишь их? - продолжал отец, все еще держа сына за руку и пристально смотря на него.
- Полноте, батюшка, лучше переменимте разговор.
- Зачем переменять? Отвечай мне, скажи мне, Володя…
- Можете ли вы сомневаться?
- Нет, до сих пор я не сомневался в тебе, - видит бог, не сомневался; но что же ты не посмотришь на меня? отчего же ты говоришь со мной так сухо? Я вас очень люблю, и тебя, и сестру твою, очень, - нам не долго быть вместе.
Владимир Матвеич поцеловал руку отца.
- Лучше поцелуй меня… вот так… Ты много мне доставлял в жизни утешения…
Будь ко мне поласковее… мне все кажется, что я помешал тебе; может, тебе нужно куда-нибудь… у тебя дела…
- Нет-с, я совершенно свободен… мне приятно провести с вами время.
Правый глаз Матвея Егорыча заморгал, и что-то похожее на беспокойство и недоумение изобразилось на лице его. Этот полуживой, боязливый, иссохший старичок ничего уже не имел общего с тем самодовольным человеком, который некогда, улыбаясь, любовался Владимиром 3-й степени.
- Вот еще что я хотел сказать тебе, - говорил он сыну, в свою очередь потупляя глаза, - мне совестно, Володя, обирать тебя, - я и без того это время перебрал у тебя, я думаю, рублей до двухсот… только у нас нет ни полушки… мне не на что послать за лекарством… вон на столе лежит рецепт… я бы не беспокоил тебя… Если можешь помочь нам, если только это не расстроит тебя, одолжи нам еще… рублей хоть двести. Матвей Егорыч едва договорил это; слова насилу сходили с языка его; он как будто ждал, не прервет ли Володя его затруднительной речи; но Владимир Матвеич не прерывал его, и, когда отец замолчал, ожидая ответа, - он, смутясь и запинаясь, объявил, что сам очень нуждается в деньгах и что более пятидесяти рублей, к сожалению, никак не может уделить от себя.
Вынув из кармана пятидесятирублевую ассигнацию, будто нарочно заготовленную им для этого случая, Владимир Матвеич положил ее на стол.
Голова Матвея Егорыча опустилась на подушку, и, верно, он почувствовал в эту минуту какую-нибудь боль, потому что лицо его болезненно сморщилось.
- Прости меня, Володя, - сказал он едва слышно, - я боюсь, не обременяю ли я тебя нашими нуждами, - и он закрыл глаза, будто засыпая.
Владимир Матвеич осторожно, потихоньку хотел выйти из комнаты, но едва он приподнялся, как старик вздрогнул и открыл глаза.
- Куда ты, Володя? - спросил он.
- Я думал, что вы заснули, батюшка.
- Нет, я так только начинал забываться. Тебе, может быть, пора куда-нибудь… поезжай с богом… Навести меня еще…
Владимир Матвеич взял шляпу и хотел подойти к руке отца; но старик, заметив его движение, отдернул руку и, приподнимаясь с подушки, обнял сына костлявою, морщинистою рукою и снова пристально посмотрел на него мутными, болезненными глазами, как бы непреодолимо желая на лице его прочитать тайну его сердца.
- Любишь ли ты меня?
- Как же мне не любить вас, батюшка?
- Ну, хорошо… Прощай же, Володя, прощай. Меня в самом деле что-то в сон начинает клонить…
Маша, сидевшая в соседней комнате, почти от слова до слова слышала весь этот разговор. Когда Владимир Матвеич вышел из отцовского кабинета, она пошла к нему навстречу.
- Послушай, - сказала она брату решительным и твердым голосом, - вот уж более недели матушка не знает, что делать, она кое-как еще перебивается; но к ней беспрестанно приходят за деньгами, - нельзя же все забирать в долг. Она очень страдает, она может занемочь, а лекарства не отпустят в долг; ты видел, в каком состоянии батюшка… Ты должен помочь им.