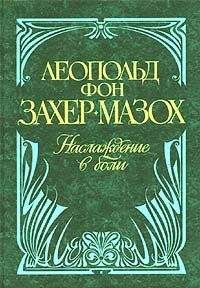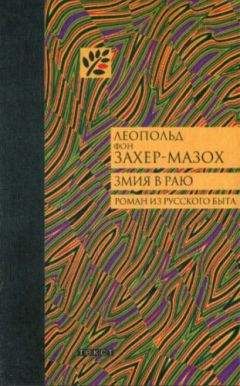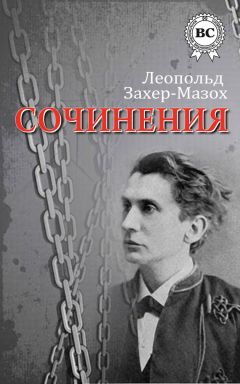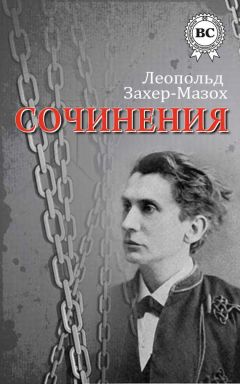Я посмотрел на нее, медленно отнял руку, которой все еще обнимал ее талию, и вышел из комнаты. Она… не позвала, не вернула меня.
* * *
Долгая бессонная ночь. Десятки раз я принимал всевозможные решения и снова отказывался от них.
Утром я написал письмо, в котором объявил, что считаю нашу связь расторгнутой. Рука моя дрожала, когда я писал, и, когда запечатывал письмо, я обжег себе пальцы.
Когда я взошел на лестницу, чтобы отдать письмо горничной, у меня подкашивались ноги, я едва не упал.
Но дверь открыла Ванда сама, выглянув одной головой, на которой белели папильотки.
– Я еще не причесана, – с улыбкой сказала она. – Что вы хотели?
– Письмо…
– Мне?
Я кивнул головой.
– Ах, вы хотите порвать со мной? – воскликнула она насмешливо.
– Разве вы не заявили вчера, что я не гожусь быть вашим мужем?
– Повторяю это и сейчас.
– Ну вот – возьмите… – Я протянул ей письмо, дрожа всем телом; голос не повиновался мне.
– Оставьте его у себя, – сказала она, холодно глядя на меня. – Вы забываете, что теперь речь вовсе не о том, можете ли вы удовлетворить меня как муж, – а в рабы вы во всяком случае годитесь.
– Сударыня!.. – с негодованием воскликнул я.
– Да, так вы должны называть меня отныне, – сказала Ванда, откидывая голову с невыразимым пренебрежением. – Извольте устроить ваши дела в двадцать четыре часа, послезавтра я еду в Италию, и вы поедете со мной, в качестве моего слуги.
– Ванда!..
– Я запрещаю вам фамильярности со мной, – резко оборвала она. – Запомните также, что являться ко мне вы должны не иначе как по моему зову или звонку и не заговаривать со мной первый, когда я с вами не говорю. Зоветесь вы отныне не Северином, а Григорием.
Я задрожал от ярости и… к прискорбию должен сознаться – в то же время и от наслаждения, от острого возбуждения.
– Но… сударыня, вы ведь знаете мои обстоятельства, – смущенно заговорил я, – а я ведь завишу еще от своего отца… Сомневаюсь, чтобы он дал мне такую большую сумму, какая нужна для этой поездки…
– Значит, у тебя денег нет, Григорий, – сказала Ванда, очень довольная, – тем лучше! Тогда ты, значит, всецело зависишь от меня и оказываешься в самом деле моим рабом.
– Вы не приняли во внимание, – попытался я возразить, – что, как человек честный, я не могу…
– Я все приняла во внимание. Как человек честный, – голос ее звучал повелительно, – вы обязаны прежде всего сдержать свое слово, свою клятву, последовать за мной, в качестве моего раба, куда я прикажу, и повиноваться мне во всем, что я ни прикажу. А теперь ступай, Григорий!
Я направился к двери.
– Постой… можешь предварительно поцеловать мою руку.
И она с горделивой небрежностью протянула мне руку для поцелуя, а я… я, дилетант, я, осел, я, жалкий раб, припал к ней с порывистой нежностью своими горячими, пересохшими от волнения губами.
Мне еще милостиво кивнули головой – и отпустили меня.
* * *
Поздно ночью у меня еще горел огонь и топилась большая зеленая печь, так как мне надо было еще позаботиться о некоторых письмах и бумагах, а осень, как это бывает у нас обыкновенно, вдруг и сразу вступила в свои права.
Вдруг она постучала ко мне в окно деревянной ручкой хлыста.
Я отпер окно и увидел ее в ее опушенной горностаем кофточке и высокой, круглой казацкой шапке из горностая, вроде тех, которые носила иногда Екатерина Великая.
– Готов ты, Григорий? – мрачно спросила она.
– Нет еще, моя повелительница,– ответил я.
– Это слово мне нравится,– отозвалась она,– можешь всегда называть меня своей повелительницей,– слышишь? Завтра утром, в 9 часов, мы уезжаем отсюда. До железнодорожной станции ты будешь моим спутником, моим другом, а с той минуты, когда мы сядем в вагон,– ты мой раб, мой слуга. Закрой теперь окно и отопри дверь.
Когда я сделал то, что она приказала, и она вошла в комнату, она спросила, насмешливо сдвинув брови:
– Ну-с, нравлюсь я тебе?
– Ты обв…
– Кто позволил тебе это? – воскликнула она, хлестнув меня хлыстом.
– Вы дивно прекрасны, моя повелительница.
Ванда улыбнулась и уселась на кресле.
– Стань здесь на колени – вот тут, около моего кресла.
Я повиновался.
– Целуй руку…
Я схватил ее маленькую, холодную ручку и поцеловал.
– И губы…
Волна страсти хлынула на меня – я обвил руками тело жестокой красавицы и осыпал, как безумный, пламенными поцелуями ее лицо, губы и грудь, – и она с той же жгучей страстью отвечала на мои поцелуи, с закрытыми глазами, как во сне…
Далеко за полночь мы не могли оторваться друг от друга.
* * *
Ровно в 9 часов утра, как она приказала, все было готово к отъезду, и мы выехали в удобной коляске из маленького горного курорта в Карпатах, в котором разыгралась самая интересная драма моей жизни, запутавшись в сложный узел, и никто из нас предсказать не мог, как он когда-нибудь распутается.
Все шло превосходно вначале. Я сидел рядом с Вандой, она, не умолкая, болтала со мной мило, увлекательно, остроумно, как с добрым другом, об Италии, о новом романе Писемского, о музыке Вагнера. Дорожный костюм ее состоял из своего рода амазонки, черного суконного платья с короткой кофточкой, отделанной мехом, плотно облегавшей ее стройные формы и великолепно обрисовывавшей их. Поверх платья на ней была темная дорожная шубка.
На волосах, собранных в античный узел, сидела маленькая темная меховая шапочка, с которой ниспадала повязанная вокруг нее черная вуаль.
Ванда была очень хорошо настроена, шаловливо клала мне конфеты в рот, причесывала меня, развязывала мне галстук, повязывала снова прелестной маленькой петлей, набрасывала мне на колени шубку и под ней украдкой сжимала мои пальцы, а когда наш возница-еврей заклевал носом, она даже поцеловала меня – и холодные губки ее дышали свежим, морозным ароматом – словно юная роза, расцветшая осенью среди пожелтелых листьев и совсем обнаженных стеблей, чашечку которой первая изморозь покрыла мелкими ледяными бриллиантами.
* * *
Вот и железнодорожная станция. У вокзала мы вышли из коляски. Ванда с обворожительной улыбкой сбросила с плеч мне на руки шубу и потом пошла позаботиться о билетах.
Когда она вернулась, она переменилась неузнаваемо.
– Вот тебе билет, Григорий, – проговорила она таким тоном, каким говорят надменные барыни со своими лакеями.
– Третьего класса?! – воскликнул я с комическим ужасом, взглянув на билет.
– Конечно. Вот что не забудь: ты сядешь в вагон только тогда, когда я совсем устроюсь в купе и ты мне больше не будешь нужен. На каждой станции ты должен входить в мой вагон и спрашивать, не будет ли каких приказаний. Смотри же, запомни все это. А теперь подай мне шубку.
Когда я смиренно, как раб, помог ей надеть шубку, она позвала меня с собой, чтоб отыскать свободное купе первого класса, вскочила в него, опершись о мое плечо, и, усевшись, приказала мне закрыть ей ноги медвежьей шкурой и подложить грелку.
Затем она кивком головы отпустила меня.
Я медленно пошел в свой вагон третьего класса, весь пропитанный самым мерзким табачным дымом, как чистилище туманными парами Ахеронта. Потянулся долгий досуг, во время которого я мог предаваться решению загадок человеческого бытия и величайшей из этих загадок – души женщины.
Каждый раз, когда останавливается поезд, я выскакиваю, бегу в ее вагон и смиренно стою со снятой с головы фуражкой в ожидании ее приказаний. Она велит принести то чашку кофе, то стакан воды, раз потребовала легкий ужин, в другой раз – таз с теплой водой, чтобы вымыть руки, – и так все время.
В купе у нее поместились по пути двое-трое пассажиров, она позволяет им ухаживать за собой, кокетничает с ними; я умираю от ревности и вынужден скакать сломя голову, чтобы быстро исполнять все приказания и своевременно приносить все, не; опоздав, когда тронется поезд. Так проходит вся остальная часть дня, наступает ночь.
Я не в силах ни куска проглотить, ни глаз сомкнуть, дышу одним воздухом с польскими крестьянами, с барышниками-евреями, с грубыми солдатами, – воздух насквозь пропитан луком, – а когда вхожу к ней в купе, вижу ее закутанную в мягкие меха, на подушках дивана, укрытую шкурами,– лежит, словно деспотическая властительница Востока, а господа пассажиры сидят навытяжку, прислонившись к стене – точно индийские идолы, – едва смея дышать.
В Вене, где она останавливается на день, чтобы сделать кой-какие покупки, и прежде всего накупить множество великолепных туалетов, она продолжает обращаться со мной как со своим слугой.
Я следую за ней на почтительном расстоянии, в десяти шагах; она протягивает мне то и дело, не удостаивая меня ни одного приветливого взгляда, пакеты, и я наконец, нагруженный как осел, вынужден пыхтеть под их тяжестью.