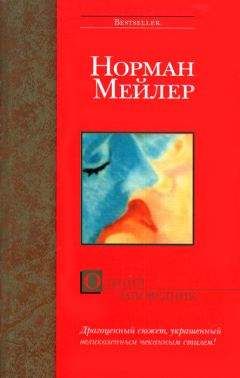Ознакомительная версия.
Она вдруг сказала:
— Я вот возьму и поеду на Стэнхоп-Гейт и спрошу дорогого Джолиона.
— Это еще зачем? — сказал Джемс, забирая в кулак одну из своих бакенбард. — Только и дождешься, что он даст тебе нахлобучку!
То ли устрашенная этой перспективой, то ли по другим причинам, но Джули, видимо, раздумала ехать; она перестала обмахиваться, и лицо ее приняло то выражение, из-за которого в семье создалась поговорка: «Такой-то? Ну! Настоящая Джули».
Джемс, однако, уже истощил свой недельный запас новостей.
— Я вижу, Эмили, — сказал он, — тебе хочется домой. Да и лошади, наверно, застоялись.
Справедливость этого утверждения никогда не подвергалась проверке, так как Эмили всякий раз тотчас вставала и говорила: «Прощайте, дорогие. Передайте от нас привет Тимоти».
Так было и на этот раз. Она легонько перецеловала всех тетушек в щеку и вышла из комнаты раньше, чем Джемс вспомнил — как он после жаловался ей в карете, — что именно он должен был у них спросить; а ведь он, собственно, ради этого и приехал!
Когда они удалились, тетя Эстер, поглядев сперва на одну сестру, потом на другую, окутала «Тайну леди Одли» своей шалью и вышла на цыпочках. Она знала, что теперь будет. Тетя Джули дрожащими руками взяла доску для солитера. Вот она, решительная минута! И она ждала, изредка переставляя шарики мокрыми от пота пальцами и украдкой поглядывая на прямую фигуру, затянутую в черный шелк со стеклярусной отделкой и камеей у ворота. Она решила, что ни за что не заговорит первой, и вдруг сказала:
— Ну что ж ты молчишь, Энн?
Тетя Энн встретила ее взгляд своими серыми глазами, которые так хорошо видели вдаль, и промолвила:
— Ты слышала, что говорили Джемс и Суизин.
— Я не выгоню эту собачку, — сказала тетя Джули. — Не выгоню, и все! Кровь стучала у нее в висках, и сама она постукивала ботинком об пол.
— Будь это действительно хорошая собачка, она бы не убежала и не потерялась. Но собачкам этого пола нельзя доверять. Пора бы тебе это знать, Джули, в твои годы. Теперь мы одни — я могу говорить открыто. Она, конечно, будет приводить сюда кавалеров.
Тетя Джули сунула палец в рот, пососала его, вынула и сказала:
— Мне надоело, что со мной обращаются, как с ребенком.
Тетя Энн бесстрастно ответила:
— Тебе следовало бы каломеля принять: разводишь тут истерики! Мы никогда не держали собак.
— Я вам и не предлагаю, — сказала тетя Джули. — Это будет моя собака. Я… я… — Она не решалась заговорить о том, что лежало у нее на сердце, о своей жажде быть любимой — это… это значило бы пускаться в излияния!..
— Нельзя оставлять у себя то, что не твое, — сказала тетя Энн. — Ты сама это прекрасно понимаешь.
— Я помещу объявление в газетах; если хозяин отыщется, я ее отдам. Но она сама пошла за мной, по своей воле. А жить она может внизу. Тимоти никогда ее и не увидит.
— Она станет пачкать ковры, — сказала тетя Энн, — и лаять по ночам. У нас покоя не будет.
— Надоел мне покой, — сказала тетя Джули, громыхая по доске стеклянными шариками. — Надоел покой и надоело беречь вещи — все беречь и беречь… так что, под конец, уже не я… не ты… уже не они тебе, а ты им принадлежишь!
Тетя Энн воздела вверх свои худые, бледные руки.
— Ты сама не понимаешь, что говоришь! Кто не умеет беречь вещи, тот не достоин их иметь.
— Вещи, вещи! Надоели мне вещи! Я хочу что-нибудь живое. Хочу вот эту собачку. А если вы мне не дадите, я уеду и возьму ее с собой. Вот вам!
Таких бунтарских речей еще никогда не слыхали эти стены! Тетя Энн сказала очень тихо:
— Ты не можешь уехать, Джули; у тебя нет денег. Так что незачем об этом и говорить.
— Джолион даст мне денег; он не позволит вам меня тиранить.
Морщинка боли залегла между старческих глаз тети Энн.
— Разве я тебя тираню? — сказала она. — Ты забываешься!
Целую минуту тетя Джули молчала, глядя то на свои дергающиеся пальцы, то на изрезанное морщинами, бледное, как слоновая кость, лицо старшей сестры. Слезы раскаяния подступили у нее к глазам. Дорогая Энн так стара… и доктор всегда говорит!.. Джули поспешно достала носовой платочек.
— Я… я… я так расстроилась… Я не хотела… дорогая Энн… я… Слова вперемежку с рыданиями спотыкались у нее на губах. — Но мне т-так хо… хочется эту с-соб… бачку!
Воцарилось молчание, нарушаемое лишь ее всхлипываниями.
Потом прозвучал голос тети Энн — спокойный, чуть-чуть дрожащий:
— Хорошо, милочка. Нам придется многим пожертвовать, но если это может сделать тебя счастливее…
— О! о! — зарыдала тетя Джули. — О! о!
Крупная слеза упала на доску для солитера, и тетя Джули вытерла ее платочком.
Летом 1880 года Джемс Форсайт, уйдя пораньше из своей конторы в Сити и повстречав возле Конногвардейских казарм своего старинного приятеля Трэкуэра, пошел рядом с ним и так начал разговор:
— Что-то мне нездоровится.
— Ну-у? — сказал его приятель. — А вид у вас веселенький. Вы куда? В клуб?
— Нет, — сказал Джемс. — К Джобсону. Сегодня там продают Смелтеровскую коллекцию. Вряд ли будет что путное, но я решил поглядеть.
— Смелтеровские картины? Его «Амура и Пискею», как он выражался? Так ведь и не научился говорить по-человечески.
— Не знаю, с чего ему было умирать, — сказал Джемс. — Ему еще и семидесяти не было. А хороший у него был портвейн 47-го года!
— Да. И темный херес.
Джемс покачал головой.
— Вредно для печени. Я сейчас прошелся пешком из Темпля. Печень немножко не в порядке.
— Поезжайте в Карлсбад. Это теперь самый модный курорт.
— Гомбург, — машинально проговорил Джемс. — Эмили нравится. По-моему, слишком шумно. Не знаю: мне шестьдесят девять лет. — Он показал зонтиком на бронзового льва[9].
— Этот молодчик, Лендсир, надо думать, зашиб на них порядочную деньгу, — проворчал он. — Говорят, Диззи очень плох. Он-то долго не протянет.
— М-м. А этот старый осел, Гладстон, еще, увидите, всех нас перессорит. Думаете покупать у Джобсона?
— Покупать? Я не так богат, чтоб выбрасывать деньги в окошко. У меня дети растут.
— Да-а… А как поживает ваша замужняя дочь Уинифрид?
Морщинка между бровей Джемса стала еще глубже.
— Она мне никогда ничего не говорит. Но я знаю, что ее муженек, этот Дарти, сорит деньгами направо и налево.
— Чем он занимается?
— Маклер, — мрачно отвечал Джемс. — Но, насколько я могу судить, он ровно ничего не делает, только шляется на скачки и в разные веселые места. Не будет из него толку.
Он остановился на краю тротуара, где переход был только что подметен после недавнего дождя, и, достав пенни из брючного кармана, подал его подметальщику, который обмерил его длинную фигуру круглыми проницательными глазами.
— Ну, прощайте, Джемс. Я иду в клуб. Кланяйтесь от меня Эмили.
Джемс Форсайт кивнул и зашагал, как аист, по узкому переходу. Энди Трэкуэр! Ничего, еще молодцом! Живчик! Но уж эта его жена — надо же было придумать — в его годы жениться во второй раз! Как водится: седина в бороду, а бес в ребро. Проезжавшая извозчичья карета загородила ему дорогу, он машинально поднял зонтик — никогда не смотрят, куда едут!
Переходя площадь Сент-Джемс, он предавался мрачным размышлениям: эти новые клубы — вон какие домины! — и всюду теперь заводят асфальтовые мостовые. Ну, не знаю! Лондон скоро станет совсем непохож на то, чем был раньше, — и лошади только и делают, что оскользаются на этом асфальте! Он свернул к Джобсону. Три часа! Как раз к началу. А Смелтер, наверно, оставил после себя кругленькое состояние!
Поднявшись по ступенькам, он прошел через вестибюль в аукционный зал. Аукцион уже начался, но до «собственности Уильяма Смелтера, эсквайра» еще не добрались.
Оседлав нос черепаховым пенсне, Джемс углубился в каталог. После покупки Тернера — а кто говорит, что это вовсе и не Тернер — сплошь такелаж и утопающие — Джемс больше не покупал картин, а над лестницей было на стене пустое место. Довольно-таки широкое, а свет там слабый, и Джемс часто смотрел на эту стену и думал, что она выглядит очень голо. Если бы нашлось что-нибудь не слишком дорогое, можно бы об этом подумать. Гм! Вот он, Бронзино: «Амур и Пискея», которой Смелтер так гордился, — «обнаженные фигуры» — ну, у нас на Парк-Лейн обнаженные фигуры не к месту. Он продолжал просматривать каталог: «Клод Лоррен», «Босбем», «Корнелий ван Вос», «Снайдерс». Ага, Снайдерс! Натюрморты — утки и гуси, зайцы, артишоки, лук, деревянные тарелки, устрицы, виноград, индейки, груши, а под всем этим спящие борзые, такие тощие, как будто их никогда не кормили досыта. № 17, «М. Гондекутер. Домашняя птица. 11 футов на 6.» Ого! Вот это размер! Он мысленно сделал три шага внутрь картины и три шага обратно. «Гондекутер». У брата Джолиона висит один в биллиардной на Стэнхоп-Гейт — тоже домашняя птица, — но не такой огромный. «Снайдерс». «Ари Шеффер» — ну, это что-нибудь малокровное, можно поручиться! «Роза Бонер», «Снайдерс».
Ознакомительная версия.