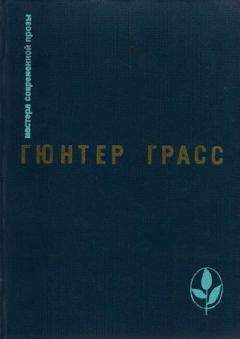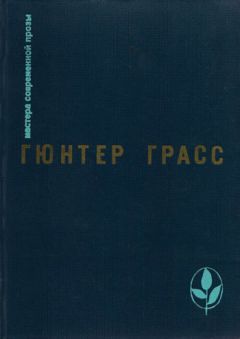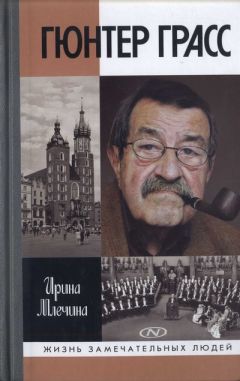Генрих Шюц, сидевший с отсутствующим видом в течение всей перепалки, взялся ответить на вопрос для чего: для написания слов, располагать которые в искусном порядке всемилостивейше дано только поэтам. Чтобы по крайности вырвать у бессильного немотства — а он хорошо с ним знаком — тихое «несмотря ни на что».
С этим мы могли согласиться. Быстро, пользуясь кратким перемирием, Дах сказал: текст ему нравится, хотя он вряд ли пригоден. Обыкновенно столь суровый господин Шюц на сей раз в мягкой форме выразил то, что ведает каждый: нет у пиитов никакой иной власти, кроме единственной — соединять верные, хотя и бесполезные, слова. Надобно дать манифесту перележать ночь: утро вечера мудренее. С этими словами он пригласил всех в большую залу — на новый диспут. Должен ведь Гергардт наконец изложить свои возражения знаменитому гостю.
То ли пшенка с купырем была тому виной, то ли обращение к властителям пустило поэтам кровь, так или иначе, но взбудораженные умы поуспокоились; и вот уже полукруг чинно внимал степенной речи Гергардта против капельмейстера саксонского курфюршества.
Упреки Шюца, что немецкой поэзии недостает дыхания, что она забита словесным сором, что музыка не может утвердить в ее хаосе ни взволнованность свою, ни свой лад, — этот суровый приговор с разъяснительной сноской на то, что сад поэзии одичал из-за войны, остался неоспоренным, ибо вызванный Дахом Гергардт говорил об общих материях. Гость-де не желает ничего видеть, кроме своего искусства. Так высоко паря, не различишь, конечно, всякую мелочь вроде простых слов. Зато они прежде всякого искусства служат богу. Ибо вера истинная взыскует несен, обороняющих душу от греха. Такие песни посвящены умам бесхитростным, их без труда можно петь в церковных общинах. Петь построфно — дабы поющий христианин с каждой строфой бежал своей слабости, укреплялся в вере и черпал утешение в грудное время. Смиренно помогать бедным грешникам доступным им песнопением — этим Шюц пренебрег. Даже бекеровский псалтырь, как он не раз слышал, для прихожан излишне замысловат. Тогда уж ему, Гергардту, милее его друг Иоганн Крюгер, кантор, не пренебрегающий строфической песнью. Крюгеру не до проблем искусства. Не блестящие придворные капеллы князей ему дороги, но нужды простого человека. Ему, как и некоторым иным не столь именитым композиторам, не скорбно потрудиться ради ежедневных потребностей христианской общины, полагая строфы на нотные графы. Назвать хотя бы «Во всех моих деяньях…» столь рано отошедшего к господу Флеминга, или «О вечность, слово громовое…» почтенного Иоганна Риста, или «Блаженны верующие…» любезного нашего Симона Даха, или «Сотрется в дым и пеплом скроет…» подвергшегося здесь поношениям, но воистину могучего словотворца Грифиуса, или даже его, всем сердцем преданного всевышнему, Гергардта, строфы: «Проснись, душа, и воспой…», или недавно написанное «На жизнь воззри, о мир людской, на крест взнесенную тобой…», или «Хвалу и честь ему взнесем…», или то, что написал он уже здесь, в своей комнате, в предвидении близкого мира и того, что в церквах пожелают его воспеть: «Итак, сбылось! Свершилось! Окончена война. Несет господня милость иные времена…»[13]
Сию шестистрофную песню, в четвертой строфе которой — «…Разрушенные башни/Святых монастырей,/И выжженные пашни,/И пепел пустырей,/И рвы глухие эти…»[14] — простыми словами живописалась участь отечества, Гергардт на саксонский манер произнес всю от начала до конца. Собравшиеся были ему благодарны. Рист низко поклонился. Опять залился слезами юный Шефлер. Грифиус встал, подошел к Гергардту и широким жестом обнял его. Все погрузились в задумчивость. Шюц сидел как под стеклянным колпаком. Альберт — полный тревоги. Дах громко и многократно сморкался.
Тут разорвал тишину голос Логау: ему хотелось бы только заметить, что набожные духовные песни, которые многие из собравшихся прилежно изготовляют для церковного употребления, не могут быть предметом литературной полемики, как и, с другой стороны, высокое искусство господина Шюца, на много ступеней вознесенное над расхожим церковным песнопением, но тем успешнее служащее единственно прославлению господа. Кроме того, критическое замечание Шюца о спертом воздухе немецкой поэзии надобно основательно обдумать. Сам он, во всяком случае, благодарит за науку.
Поскольку Чепко и Гофмансвальдау согласились с Логау, Рист и опять-таки Гергардт были противного мнения, Грифиус грозил вот-вот взорваться, а Бухнер благодаря долгому молчанию накопил длинную речь, мог, того и гляди, снова вспыхнуть диспут, тем более что Дах, казалось, несколько растерялся и лишь обреченно ждал нового напора ораторства. Но тут против ожиданий (и без приглашения) снова заговорил Шюц.
Сидя, тихим голосом он просил извинить его за порожденные недоразумения. Повинна в них лишь неистребимая нужда его в ясной, но внутренне подвижной словесной основе. Ради нее, этой нужды, он решается еще раз пояснить, какого именно рода произведения словесного искусства потребны музыке.
Он встал и на примере собственного пассивна «Семь слов на кресте» принялся толковать свое музыкальное обхождение со словом. Сколь долгими и с какими ударениями должны быть слоги. Как может расшириться значение слова в пении. Насколько возвышенно благородным может стать глубокое слово печали. Под конец он даже спел — сохранившим красоту старческим голосом — за Марию и апостола: «Женщина, смотри, смотри, то сын твой…» — «Иоанн, смотри, смотри, то мать твоя…» Затем снова сел и сидя огласил, вновь вызвав неодобрение, сначала по-латыни: «Ut sol inter planetas…», потом в немецком переводе девиз Энрико Саджиттарио: «Как солнце сияет среди планет, так и музыка сияет среди искусств».
Дах, обрадованный (или напуганный) страстным пением, то ли не почувствовал новой дерзости, то ли не захотел ее заметить. Во всяком случае, он безо всякого перехода призвал к дальнейшему чтению — сначала Цезена, потом Гарсдёрфера и Логау, под конец Иоганна Риста. Названные один за другим выразили свое согласие. Только Рист оповестил, что не может предложить ничего, кроме первоначальных набросков (будущих произведений). За каждым чтением следовало деловое, держащееся теперь текста, не растекающееся по теории обсуждение, не свободное, правда, от обычных отлучек в область морали. Отлучался то один, то другой участник собрания и за дверь — кто до ветра, кто сбегать в Тельгте, кто поиграть на солнышке в кости с мушкетерами. (Когда на следующий день Векерлин пожаловался на пропажу денег из комнаты, подозрение первым пало на Грефлингера: Шнойбер видел его играющим в кости.)
Благозвучный, как назовут его годом позже, принимая в члены «Плодоносного общества» — вслед за чем возведут и в дворянство, — Филипп Цезен, этот беспокойный, дерганый, путающийся в объяснениях своих новаций, пожираемый пламенем разных, взаимно непримиримых страстей, молодой еще, в сущности, человек, поначалу туманно говорил о некоем «ужасном видении», разумея, но не называя плывущие по Эмсу трупы, — видении, которое еще должна осенить любовь, чтобы придать законченность его стихам… Потом он наконец собрал себя на табурете подле чертополоха и прочитал отрывки недавно опубликованного в Голландии пасторального любовного романа, герой которого — немец и лютеранин Маркхольд — тщетно домогается любви венецианки и католички Розамунды, требующей от него взамен согласия клятвенного обещания воспитывать будущих дочерей в католической вере.
Этот конфликт, с изрядным настоящим и еще более богатым будущим, заинтересовал собрание, несмотря на то что большинству из них книга была уже известна, а новомодная манера письма — Цезен отказывался от обозначения долготы немецкого «и» посредством прибавления к нему «е», а «е» открытое обозначал через «а» с умляутом — вызвала уже полемические нападки в печати (особенно рьяные — со стороны Риста).
Гарсдёрфер и Биркен защищали новатора и смелого словотворца, Гофмансвальдау хвалил изящный слог повествования, однако же бесконечные обмороки адриатической Розамунды, ее постоянная готовность к падению ниц («Глаза были полузакрыты, уста побледнели, язык онемел, ланиты поблекли, руки повисли, как плети…») вызвали во время чтения громкий смех Риста и других слушателей (Лауремберга и Мошероша), а потом, во время обсуждения, повлекли за собой и веселые пародии.
Цезен сидел, словно под градом ударов. Так что даже вряд ли расслышал восклицание Логау: «Все-таки опыт отважный!» А когда пылким излияниям чувств своего бывшего ученика принялся ставить запруду из цитат Опица магистр Бухнер, Цезена спасло только обильное кровотечение из носа. Экая прорва крови в тщедушном человечке. Текла и текла на белые брыжи. Капала на все еще открытую книгу. Дах прервал обсуждение. Кто-то (Чепко или издатель Эльзевир) вывел Цезена и уложил на холодные доски. Вскоре кровь остановилась.