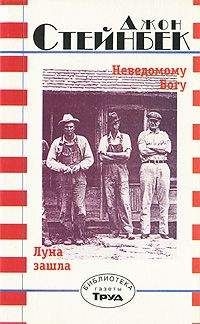Ознакомительная версия.
Но Элизабет покачала головой, и такое покачивание закутанной головы выглядело странным.
— Нет, со мной всё в порядке, дорогой. Когда мы доедем до дома, будет очень поздно. Я хочу ехать.
Он хлестнул кнутом по крупам лошадей, и они продолжили путь вдоль реки. Высокие ивы, растущие у дороги, шелестели своими вершинами и иногда касались их спин длинными податливыми ветвями. Издавая высокие пронзительные звуки, в горячем кустарнике пели сверчки; кузнечики, взмахивая бледно-жёлтыми крылышками, со стрёкотом проносились в воздухе, а затем скрывались в сухой траве. Тут и там небольшие лесные кролики с мехом голубоватого оттенка в панике разбегались от дороги и, оставшись на этот раз целыми и невредимыми, усаживались на задние лапы, украдкой поглядывая на повозку. В воздухе стоял тёплый запах травы, резко пахло ивовой корой и листьями растущих у реки лавровых деревьев.
Под стук копыт Джозеф и Элизабет, пойманные ритмами дня, сонно раскачивались на кожаном сидении. Их спины и плечи мерно поглощали дрожь коляски. Сами собой подкрадывались сон и беспечность, ещё более глубокая, чем сон. Теперь дорога вслед за рекой резко свернула к горам. Высокие гребни гор, словно густым грубым мхом, были покрыты тёмным шалфеем; лишь высохшие русла водных потоков серыми рубцами, похожими на зажившие раны от седла на спине лошади, зияли на их поверхности. Солнце клонилось к западу, а дорога, вслед за рекой, приближалась к тому месту, где они вместе делали поворот. Время для двух седоков, едущих в коляске, которую везли неспешно бегущие лошади, превратилось в не имеющий чётких границ промежуток между мыслями. Холмы и река предстали перед ними во всём своём великолепии, а затем, когда дорога пошла на подъём, лошади стали двигаться рывками, что напоминало работу кузнечных молотов. Они ехали в гору. При соприкосновении с осколками известняка, из которого состояли холмы, дребезжали колёса. Наезжая на камни, их железные обода издавали резкий звук.
Подобно собаке, которая хочет вытряхнуть воду, попавшую в глаза, Джозеф наклонился вперёд и, чтобы отогнать наваждение, резко качнул головой.
— Элизабет, — сказал он, — мы подъезжаем к перевалу.
Она откинула вуаль и уложила её на шляпе. Глаза её постепенно оживали.
— Я, должно быть, спала, — сказала она.
— Я тоже. Мои глаза были открыты, а я спал. Но вот и перевал.
Гора была словно расколота надвое. Два открытых пласта известняка сближались и плавно опускались вниз, оставляя на дне расщелины только место для русла реки. Сама дорога кончалась обрывом, находившимся на расстоянии в десять футов от поверхности воды. Посередине перевала, где вынужденная замедлить своё течение глубокая река текла быстро и бесшумно, из воды, словно нос лодки, которая движется вверх по течению с большой скоростью, поднималась, производя сердитый шум водоворота, шершавая каменная глыба. Теперь солнце скрылось за горой, но через перевал можно было видеть его трепещущие лучи, падающие на долину Богоматери. Повозка въехала в прохладную голубую тень белых утёсов. Преодолев вершину длинного пологого откоса, лошади бежали достаточно быстро, хотя и фыркали, вытягивая шею, на реку, протекавшую далеко внизу под дорогой, по которой они двигались.
Джозеф взял вожжи покороче, его правая нога выдвинулась вперёд и слегка упёрлась в тормоз повозки. Бросив взгляд на спокойно текущую внизу воду, он, в предвкушении встречи с долиной, которую предстояло увидеть через мгновение, испытал чувство всеохватывающей чистой и горячей радости. Он обернулся, чтобы рассказать ей о своих ощущениях и увидел, что лицо её искажено тревогой, а глаза полны ужаса. Она вскрикнула:
— Я хочу, чтобы мы остановились, дорогой. Я боюсь!
Не отрываясь, она смотрела через перевал на залитую солнцем долину. Джозеф натянул поводья и, вопросительно глядя на неё, остановил коляску.
— Я не знаю, почему. Может быть, из-за того, что дорога узкая, а внизу так шумит река.
— Да нет, нет.
Он соскочил на землю и подал ей руку, но, когда попытался подвести её к обрыву, она отдёрнула свою руку и, дрожа, отступила в тень. А он подумал: «Надо попробовать поговорить с ней. Я ведь никогда не пытался рассказать ей о чём-то таком. Наверное, это непросто, но сейчас я должен буду попробовать». В своём сознании он попытался воспроизвести то, о чем ему надо было попытаться сказать. «Элизабет, — мысленно спросил он, — тебе меня слышно? Мне становится холодно при мысли о том, о чём я должен рассказать, но тот способ, которым я хочу разговаривать с тобой, создаёт у меня молитвенный настрой». Его глаза расширились, он был в состоянии транса. «Я должен думать без слов, — мысленно произнёс он. — Однажды мне сказали, что это невозможно, но я должен… Элизабет, слушай же меня! Христос распятый — может быть, больше, чем символ страдания. Он — может быть, сама истина, которая вмещает в себя всё страдание. А человек, стоящий на вершине холма с руками, поднятыми в стороны — знак того символа, и он тоже, может быть, вмещает в себя все страдание, которое когда-либо существовало».
На миг она прервала его размышления, воскликнув: «Джозеф, я боюсь!»
А он продолжал мысленно рассуждать: «Слушай, Элизабет. Не бойся! Я расскажу тебе, как надо размышлять без слов. Дай мне возможность нащупать мгновение между словами, подбирая и пробуя их на вкус. Между обыденной реальностью и реальностью чистой, незамутнённой, неискажённой смыслами, существует некое пространство. По нему и проходит граница. Вчера мы поженились, но бракосочетания не было. Наше бракосочетание происходит здесь, на перевале, и переход через него похож на оплодотворение яйца, в котором должен образоваться зародыш. Он — символ незамутнённой реальности. В своём сердце я чувствую что-то такое, что отличается по положению, строению и продолжительности от всего остального. Вот почему, Элизабет, всё наше бракосочетание и состоит в нашем кратковременном движении». В его сознании прозвучало: «За то короткое время, пока Христос был на кресте, он вместил в свою плоть всё страдание, которое только существовало, и в нём оно было незамутнённым».
Он оставался на месте, а холмы стали надвигаться на него, нарушая его одиночество и откровенность его размышлений. Его руки стали тяжёлыми и неподвижными, повиснув, как гири на толстых, привязанных к лопаткам, верёвках, которые с трудом удерживали их.
Элизабет заметила, что уголки его рта безнадёжно поникли, а яркий блеск, мерцавший в его глазах мгновением раньше, исчез. Она воскликнула:
— Джозеф, чего ты хочешь? Что ты меня просишь сделать?
Дважды он пытался ответить, но комок в горле мешал говорить. Прокашлявшись, он прочистил гортань.
— Я хочу идти через перевал, — сказал он хрипло.
— Я боюсь. Не знаю почему, но я ужасно боюсь.
Он очнулся от летаргии и одной тяжёлой, как гиря, трясущейся рукой, обнял её за талию.
— Нечего бояться, дорогая. Нечего. Мне надо было подольше остаться наедине с собой. Кажется, это обстоятельство кое-что значило для меня, а именно, что через перевал мы должны перейти вместе.
Она вздрогнула от его прикосновения и, стоя в мрачной синей тени перевала, казалась насмерть перепуганной.
— Я пойду, Джозеф, — прошептала она. — Я должна идти, но прежде я попрощаюсь с собой. Я постою здесь и, глядя на ту, новую, которая стоит на другой стороне перевала, подумаю о себе.
Внезапно она вспомнила, как разливала уэльский чай в лужёные металлические кружки трём маленьким девочкам, которые должны были напоминать друг другу: «Мы теперь — леди. А леди всегда держат руки вот так». Ещё она вспомнила, что хотела поймать сон своей куклы в косынку.
— Джозеф, — сказала она. — Трудно быть женщиной. Я боюсь. Всё, чем я была, всё, о чём думала, останется за перевалом. На той стороне я стану взрослой. Я думала, что это должно произойти постепенно. А всё происходит так быстро.
Она вспомнила, что её мать говорила: «Когда станешь большой, Элизабет, ты узнаешь боль, но не ту, о которой ты думаешь. Такую боль не вылечишь поцелуем».
— Сейчас я пойду, Джозеф, — тихо сказала она. — Я дурачилась. Ты должен будешь ожидать от меня ещё столько глупостей.
Тяжесть оставила Джозефа. Рукой обняв её за талию, он мягко, но настойчиво повлёк её вперёд. Она наклонила голову, но знала, что он пристально, с необычайной нежностью смотрит на неё. Медленно, в тёмно-синей тени, они миновали перевал. Джозеф мягко улыбнулся.
— Боль может быть острее, чем желание, Элизабет, как тогда, когда сосёшь мятную лепёшку, а она обжигает тебе язык. Так что горечь быть женщиной может быть и радостью.
Его голос оборвался, и шаги их ног по каменистой дороге гулким эхом покатились между утёсами, то сталкиваясь с ними, то отскакивая от них. Элизабет закрыла глаза, доверившись руке Джозефа, которая направляла её. Погрузив своё сознание во тьму, она попыталась отгородиться от всего окружающего, но по-прежнему слышала сердитый шум речной воды вокруг монолита и чувствовала исходящий от камней холод.
Ознакомительная версия.