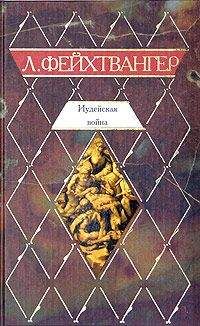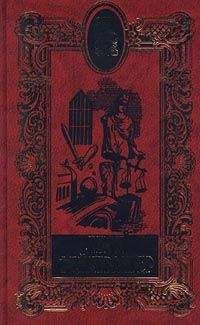Юст не заставил себя просить. К делу трех стариков нельзя подходить вне связи с вопросом о Кесарии. А вопрос о Кесарии нельзя рассматривать вне связи с политикой Рима на Востоке в ее целом. С тех пор как на Востоке управляет генерал-фельдмаршал Корбулон, Рим если и шел на уступки, то лишь формально, по сути же — никогда. При всем уважении к литературному таланту Иосифа он не думает, чтобы на императорскую канцелярию докладная записка оказала решающее влияние, скорее — данные и выкладки финансового ведомства или генерального штаба. В докладной записке, которую он, Юст, подал по предложению царя Агриппы в Восточный отдел канцелярии, он осветил главным образом юридическую сторону вопроса о Кесарии. Он сослался на город Александрию, где Рим не поддержал происков антисемитов. Но он опасается, что министр Талассий, и без того юдофоб, да еще, вероятно, подмазанный кесарийскими греками, может, невзирая на все юридические аргументы, все же удовлетворить претензии нееврейского населения. И с точки зрения общей направленности римской политики на Востоке, он, к сожалению, имеет для этого все основания.
Юст приподнялся на своем ложе: он аргументировал логично, остро, убедительно. Иосиф слушал лежа, закинув руки за голову. Вдруг он выпрямился, перегнулся к Юсту через стол, сказал враждебно:
— Это неправда, что дело тибурских мучеников — вопрос политический. Это вопрос справедливости, человечности. И я здесь — только чтобы добиться справедливости. Справедливость! Я взываю к ней с тех пор, как я в Италии. Моей жаждой справедливости я убедил императрицу.
Регин повертывал мясистую голову от одного к другому. Видел смугло-бледное худощавое лицо Иосифа, смугло-желтое худощавое лицо Юста.
— А знаете ли вы, господа, — и его высокий, жирный голос прозвучал взволнованно, — что вы очень друг на друга похожи?
Они были поражены. Каждый сравнивал себя с другим: ювелир был прав. И они ненавидели друг друга.
— Могу вам, впрочем, сказать по секрету, — продолжал Регин, — что вы спорите о деле, которое уже решено. Да, — продолжал он, глядя а упор на их растерянные лица, — вопрос о Кесарии решен… Может быть, пройдет некоторое время, пока эдикт будет обнародован, но он подписан и отправлен сирийскому генерал-губернатору. Вы правы, доктор Юст. Вопрос о Кесарии решен не в пользу евреев.
Оба молодых человека уставились на Клавдия Регина, сонно смотревшего перед собой. Они были так потрясены, что забыли и друг о друге, и о своем споре.
— Это худший выпад против Иудеи за все последнее столетие, — сказал Иосиф.
— Я боюсь, что из-за этого эдикта еще прольется кровь многих людей, — сказал Юст.
Они смолкли, выпили вина.
— Смотрите, доктор Иосиф, — сказал Регин, — чтобы ваши евреи не наделали глупостей.
— Здесь, в Риме, конечно, легко давать советы, — ответил Иосиф, и его голос был полон искренней горечи. Он сидел сгорбившись, усталый, словно опустевший. Новость, сообщенная этим противным жирным человеком, до того переполняла его сердце печалью, что в нем даже не оставалось места для унизительного ощущения, насколько смехотворна сейчас его миссия. Конечно, его соперник оказался прав, он все предвидел. А то, что нафантазировал по этому поводу Иосиф, оказалось дымом и его успех — ничем.
Клавдий Регин заговорил:
— Впрочем, я теперь же, до того как будет обнародован эдикт, опубликую вашу докладную записку, доктор Юст. Вы должны с ней ознакомиться, — обратился он с непривычной живостью к Иосифу, — это просто маленький шедевр.
И он попросил Юста прочесть главу. Иосиф, несмотря на свою подавленность, прислушался и был захвачен. Да, в сравнении с этими ясными, стройными фразами его убогая патетическая болтовня ничего не стоила.
Он сдался. Он покорился. Решил вернуться в Иерусалим, занять скромную должность при храме. Иосиф плохо спал в эту ночь и весь следующий день ходил подавленный. Ел мало и без удовольствия, не был у Луциллы, с которой сговорился на этот день. Зачем он приехал и Рим? Лучше бы он сидел сейчас в Иерусалиме, ничего не ведая о тех злых и угрожающих кознях, которые замышлялись здесь против Иудеи! Он хорошо знал город Кесарию, ее гавань, ее торговые склады, верфи, синагоги, магазины, публичные дома. Даже здания, возведенные там римлянами, хоть евреи этими зданиями и гнушались, — дворец губернатора, колоссальные статуи богини-покровительницы Рима и первого императора, — все же они приумножали славу Иудеи, пока город управлялся евреями. Но если управление перейдет в руки греков и римлян, то город станет римским, и тогда все приобретет обратный смысл, и евреев всей Иудеи и даже Иерусалима в их собственной стране станут только терпеть. Когда Иосиф об этом думал, ему казалось, что земля ускользает у него из-под ног. Скорбь и гнев настолько овладели его сердцем и всем его существом, что он чуть не заболел.
Но когда Деметрий Либаний с торжественной решительностью сообщил ему, что теперь он наконец сыграет еврея Апеллу ради того, чтобы три тибурских мученика получили свободу, Иосиф снова просиял первой неомраченной радостью своего успеха. Римские евреи отнеслись к решению Деметрия Либания спокойнее, чем можно было ожидать, судя по их первоначальному волнению; но была зима, и актеру предстояло выступать сначала не перед широкой публикой, а в маленьком дворцовом театрике, находившемся в императорских садах. Собственно говоря, теперь бранился только один человек — древний старец Аарон; он упорно бормотал свои проклятия кощунственной затее актера и всему нынешнему поколению богохульников.
Пьеса «Еврей Апелла» была первой народной музыкальной комедией, исполняемой в собственном театре цезаря. Театр вмещал всего около тысячи человек, и в обществе завидовали тем немногим, кто получил приглашение на премьеру. Присутствовали все министры — и тощий Талассии, и толстый добродушный Юний Фракиец, министр просьб и жалоб, и начальник личной охраны и стражи Тигеллин. Затем до всего любопытная, жизнерадостная верховная весталка. Не забыли, само собой разумеется, и о Клавдии Регине. Из евреев присутствовали немногие: элегантный Юлиан Альф, председатель Ведийской общины, и его сын; Иосифу с трудом удалось получить пропуск для Гая Барцаарона и его дочери Ирины.
Занавес свертывается, опускаясь. На сцене стоит еврей Апелла, человек средних лет, с длинной острой бородой, уже начинающей седеть. Он живет в провинциальном городке Иудеи, его дом мал: он сам, жена, его многочисленные дети помещаются все в одной комнате. Половину его скудного заработка у него отнимают знатные господа в Иерусалиме; половину остатка забирают римляне в Кесарии. Когда смерть уносит его жену, он уходит из дома. Он берет с собой мезузу[35], чтобы прибить ее к дверям своего будущего дома, он берет с собой свои молитвенные ремешки, свой ящик-утеплитель для субботних кушаний, свои субботние светильники, всех своих многочисленных детей и своего невидимого бога. Он идет на Восток, в Парфянскую страну. Там он строит себе домик, прибивает у входа мезузу, надевает на голову и на руку ремешки, становится на молитву, лицом к западу, где Иерусалим и храм, и молится. Он питается плохо, впроголодь, но он доволен малым и даже ухитряется посылать кое-что в Иерусалим, на храм. Но тут появляются одиннадцать клоунов, это — парфяне, они издеваются над ним. Они отнимают у него мезузу и молитвенные ремешки, они смотрят, что там внутри, находят исписанный пергамент и смеются над смешными богами этого человека. Они хотят заставить его поклоняться их богам, светлому Ормузду и темному Ариману. И так как он отказывается, они начинают дергать его за бороду и за волосы и рвут до тех нор, пока он не падает на колени, и это очень смешно. Он не признает их видимых богов, а они не признают его невидимого! Но на всякий случай они отнимают у него для алтарей своих богов ту горсточку денег, которые он скопил, и убивают троих из его семи детей. Он хоронит своих трех детей, он ходит между тремя маленькими могилками, затем садится и поет старинную песнь: «На реках вавилонских, там сидели мы и плакали»[36]; он как-то странно раскачивается, и в этих движениях есть что-то нелепое и скорбное. Потом он умывает руки и снова уходит, на этот раз на юг, в Египет. Он бросает построенный им домик, но берет с собой мезузу, молитвенные ремешки, ящик-утеплитель, подсвечники, оставшихся детей и своего невидимого бога. Он строит себе новый домик, он берет себе новую жену, годы приходят и уходят, он опять копит деньги, и взамен троих убитых детей он родит еще четверых. Теперь он, когда молится, становится лицом к северу, где Иерусалим и храм, и он не забывает каждый год посылать свою дань в страну Израиля. Но и на юге враги не оставляют его в покое. Снова приходят одиннадцать клоунов, на этот раз они — египтяне, и требуют, чтобы он поклонялся их богам: Исиде, Осирису, Тельцу, Овну и Соколу[37]. Но тут появляется римский губернатор и приказывает им оставить его в покое. Одиннадцать клоунов очень смешны, когда они, разочарованные, уходят. Но сам еврей Апелла, в своей радости победителя, еще смешнее. Он снова странно раскачивается худым телом; на этот раз он пляшет перед богом, пляшет перед полкой со священными книгами. Неуклюже задирает он ноги до поседевшей бороды, лохмотья его одежды развеваются, высохшей грязной рукой бьет он в бубен. Он раскачивается, все его кости возносят хвалу невидимому богу. Так танцует он перед книжной полкой, как некогда Давид плясал перед ковчегом[38]. Римские знатные господа в зрительном зале смеются; очень громко, отчетливо сквозь всеобщий хохот доносится дребезжащий смех министра Талассия. Но многим становится не по себе, а несколько присутствующих здесь евреев смотрят растерянно, почти испуганно на подпрыгивающего, пляшущего, качающегося человека. Они вспоминают о левитах[39], как свято те стоят с серебряными трубами на высоких ступенях храма, и о первосвященнике, с каким величием и достоинством предстает он перед богом в блеске священных одежд и драгоценных камней. А не святотатство ли то, что проделывает там, на сцене, этот актер? Однако в конце концов даже римский губернатор уже не в силах защитить еврея Апеллу. Египтян слишком много, из одиннадцати клоунов стало одиннадцатью одиннадцать, и они нашептывают на ухо императору ядовитые, обвинения, и они смешно танцуют, и они колют, и жалят, и стреляют в него маленькими смертоносными стрелами, и снова убивают они трех детей и, кроме того, жену. В конце концов еврей Апелла снова уходит — с мезузой и ремешками, с утеплителем и подсвечниками, с детьми и своим невидимым богом, и на этот раз он приходит в Рим. Но теперь пьеса становится особенно дерзкой и рискованной. Клоуны не решаются вредить ему физически, они держатся на краю сцены. Однако они все же влезают, подпрыгивая, словно обезьяны, на крышу его дома, они проникают и внутрь, они смотрят, что в мезузе и утеплителе. Они пародируют его, когда он становится на молитву, обратившись на этот раз к востоку, где Иерусалим и храм. Теперь на одиннадцати клоунах надеты очень дерзкие маски, маски-портреты, и можно без особого труда узнать и министра Талассия, и знаменитого юриста из сената — Кассия Лонгина[40], и философа Сенеку, и других влиятельных юдофобов. Однако на этот раз они ничем не могут повредить еврею Апелле, он под защитой императора и императрицы. Но клоуны стерегут минуту, когда он оплошает. И он действительно оплошал. Он женится на местной уроженке, на вольноотпущеннице. Тогда они действуют через эту женщину — вливая ей в сердце весь яд своей насмешки, Поют особенно злые куплеты насчет обрезанного, его чеснока, его вони, его поста, его утеплителя. Доходят до того, что жена высмеивает Апеллу при детях за то, что он обрезан. Тогда он прогоняет ее и остается один со своими детьми и со своим невидимым богом, под защитой одного только римского императора. Покорно, в дикой тоске, поет он, покачиваясь, свою парую песню: «На реках вавилонских, там сидели мы и плакали»; издали, совсем тихо, его пародируют одиннадцать клоунов.