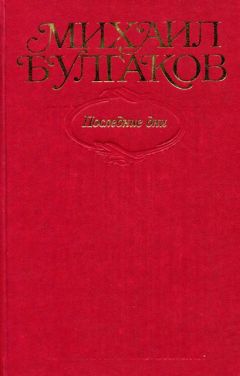— Славное море, священный Байкал!
Курьер, показавшийся на лестнице со стаканами на подносе, выругался коротко и скверно, расплескал чай и запел в тон барышне:
— Славен корабль, омулевая бочка!..
Через несколько секунд во всех комнатах пели служащие про славное море. Хор ширился, гремел, в финансово-счетном секторе особенно выделялись два мощных баса. Аккомпанировал хору усилившийся грохот телефонных аппаратов и плач девицы.
— Молодцу плыть недалечко! — рыдая и стараясь стиснуть зубы, пела девица.
Курьер пытался прервать пение, вставляя матерные слова, но это ему плохо удавалось.
Прохожие в переулке ехали останавливаться, пораженные весельем, доносившимся из учреждения. Группа посетителей под колоннами, дико вытаращив глаза, смотрела на поющую девицу. Улыбки блуждали по лицам. Лишь только первый куплет пришел к концу, пение оборвалось, курьер получил возможность выругаться, выпустил несколько ругательств подряд, схватил поднос и исчез.
Тут в парадных дверях показался гражданин, при котором тут же в группе посетителей зашептали «доктор… доктор приехал»… и двое милицейских.
— Примите меры, доктор! — истерически крикнула девица.
Тут же на лестницу выбежал секретарь и, видимо сгорая от стыда и растерянности, начал говорить:
— Видите ли, доктор, у нас случай массового… — но не кончил, стал давиться словами и вдруг запел неприятным козлиным тенором о том, что Шилка и Нерчинск нестрашны теперь…
— Дурак! Дурак! — крикнула девица, но не объяснила, кого ругает, а вывела руладу, из которой явствовало, что горная стража ее не поймала.
Недоумение разлилось по лицу врача, но он постарался совладать с собой и сурово прикрикнул на секретаря:
— Замолчите!
Видно было по всему, что секретарь и сам бы отдал все на свете, чтобы замолчать, но сделать этого не мог и, могучий, рассеянный по всему учреждению хор вместе с секретарем донес до вконец соблазненных ваганьковских прохожих вопль о том, что в дебрях не тронул прожорливый зверь.
Девицу поволокли куда-то под руки, явился лекарский помощник с сумкой.
Захаров через минуту от взволнованных посетителей учреждения узнал в чем дело.
Оказалось, что в перерыве, предназначенном по закону для завтрака, заведующий учреждением явился в столовую как раз в тот момент, когда все служащие доедали питательную и вкусную свинину с бобами.
Заведующий, по словам озлобленной девицы, сиял как солнце и вел под руку какого-то «сукина сына, неизвестно откуда взявшегося» (так точно выразилась девица), тощего в паршивых брючках и в разбитом пенсне.
Дело в том, что устройство кружков было манией заведующего. В течение полугода он организовал шахматно-шашечный кружок, кружок пинг-понга, любителей классической литературы, духовой музыки (последний быстро распался, так как проворовался кассир, игравший на валторне) и к июню угрожал организовать кружок гребли на пресных водах и альпинистов. Коротко говоря, заведующий ввел под руку Коровьева и отрекомендовал его всем любителям бобов как товарища-специалиста по созданию хоровых кружков. Лица будущих альпинистов стали мрачны. Но заведующий призвал всех к бодрости, а Коровьев тут же и пошутил, и поострил, и клятвенно заверил, что времени пение берет самую малость: «На ходу! на ходу! — трещал Коровьев, — но удовольствия и пользы три вагона». И тут «этот подхалим Косарчук» (выражение девицы) первый вскочил и восторженно заявил, что записывается. Тут все увидели, что пения не миновать, и, как один, записались. Петь решили, так как все остальное время было занято пинг-понгом и шашками, в этом самом для завтрака перерыве.
Заведующий, чтобы подать пример, объявил, что у него тенор, и далее все пошло как сон скверный (девица так говорила). Коровьев проорал «до-ми-соль-до», самых застенчивых извлек из-за шкафов, за которые они прятались в надежде отлынуть, Косарчуку сказал, что у того абсолютный слух, заныл, попросил уважить старого регента-певуна грянуть «Славное море», камертоном стучал по пальцу.
Было 12. Грянули. И славно грянули, Коровьев действительно понимал дело. Первый куплет допели в столовой до конца, после чего Коровьев исчез.
Недоумение. Пауза. Радость. Но ненадолго. Как-то сами собой двинули второй куплет, Косарчук повел высоким хрустальным тенором. Хотели остановиться — не тут-то было. Пауза. Полился третий куплет. Поняли, что беда. Заведующий стал бледен, как скатерть в столовой.
Через час был скандал, неслыханный, страшный, всемосковский скандал.
К трем часам занятия были остановлены милицией. Врачи сделать ничего не могли. Захаров был уже на улице, когда к особняку подъехали три грузовых платформы.
Милиция распорядилась очень хорошо: весь состав учреждения — восемьдесят семь человек — разбили на три партии и на этих трех грузовиках и увезли. Способ был умный, простой и наименее соблазнительный.
Лишь только первый грузовик, качнувшись, выехал за ворота, улицы огласились пением про славное море, и никому из прохожих и в голову не пришло, куда везут распевшихся служащих из отдела смет и распределения. Но, конечно, не трудно догадаться, что все три хора приехали как раз в то здание, которым руководил профессор Стравинский.
Появление такой большой партии больных вызвало смятение. Стравинский начал, кажется, с того, что всем приехавшим были даны большие дозы снотворного. А дальнейшая судьба несчастных жертв Коровьева москвичам неизвестна. Что касается Захарова, то он все-таки добился неприятности. Он добрался со своим портфелем до главного коллектора зрелищ облегченного типа, написал по форме приходный ордер и вывалил кассиру все пачки денег, которые привез в портфеле.
Лишь только кассир макнул пальцы в алюминиевую тарелочку, в которой плавала губка, обнаружилось, что пачки состоят частью из резаной газетной бумаги, частью из денежных знаков различных стран, как-то: долларов канадских, гульденов голландских, лат латвийских, иен японских и других.
На вопрос о том, что это значит, Захаров ничего не мог сказать, ибо у него отнялся язык.
Его немедленно арестовали.
6/VII. 36 г.
Загорянск.
Была полночь, когда снялись со скалы и полетели. Тут мастер увидел преображение. Скакавший рядом с ним Коровьев сорвал с носа пенсне и бросил его в лунное море. С головы слетела его кепка, исчез гнусный пиджачишко, дрянные брючонки. Луна лила бешеный свет, и теперь он заиграл на золотых застежках кафтана, на рукояти, на звездах шпор. Не было никакого Коровьева, невдалеке от мастера скакал, колол звездами бока коня рыцарь в фиолетовом. Все в нем было печально, и мастеру показалось даже, что перо с берета свешивается грустно. Ни одной черты Коровьева нельзя было отыскать в лице летящего всадника. Глаза его хмуро смотрели на луну, углы губ стянуло книзу. И, главное, ни одного слова не произносил говоривший, не слышались более назойливые шуточки бывшего регента.
Тьма вдруг налетела на луну, жаркое фырканье ударило в затылок мастеру. Это Воланд поравнялся с мастером и концом плаща резнул его по лицу.
— Он неудачно однажды пошутил, — шепнул Воланд, — и вот, осужден был на то, что при посещениях земли шутит, хотя ему и не так уж хочется этого. Впрочем, надеется на прощение. Я буду ходатайствовать.
Мастер, вздрогнув, всмотрелся в самого Воланда, тот преображался постепенно, или, вернее, не преображался, а лишь точнее и откровеннее обозначался при луне. Нос его ястребино свесился к верхней губе, рот вовсе сполз на сторону, еще острее стала раздвоенная из-под подбородка борода. Оба глаза стали одинаковыми, черными, провалившимися, но в глубине их горели искры. Теперь лицо его не оставляло никаких сомнений — это был Он.
Вокруг кипел и брызгал лунный свет, слышался свист. Теперь уж летели в правильном строю, как понял мастер, и каждый, как надо, в виде своем, а не чужом.
Первым — Воланд, и плащ его на несколько саженей трепало по ветру полета, и где-то по скалам еще летела за ним тень.
Бегемот сбросил кошачью шкуру, оставил лишь круглую морду с усами, был (в) кожаном кафтане, в ботфортах, летел веселый по-прежнему, свистел, был толстый, как Фальстаф.
На фланге, скорчившись, как жокей, летел на хребте скакуна, звенел бубенцами, держал руку убийцы на ноже огненно-рыжий Азазелло.
Конвой воронов, пущенных, как из лука, выстроившись треугольником, летел сбоку, и вороньи глаза горели золотом огнем.
Не узнал Маргариту мастер. Голая ведьма теперь неслась в тяжелом бархате, шлейф трепало по крупу, трепало вуаль, сбруя ослепительно разбрызгивала свет от луны.
Амазонка повернула голову в сторону мастера, она резала воздух хлыстом, ликовала, хохотала, манила, сквозь вой полета мастер услышал ее крик: