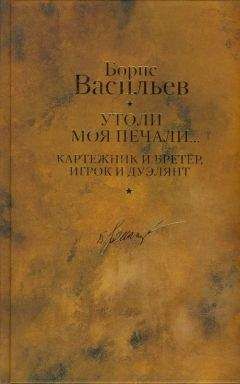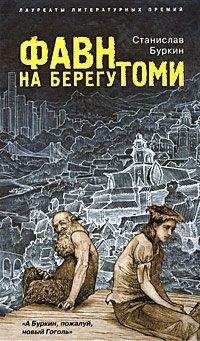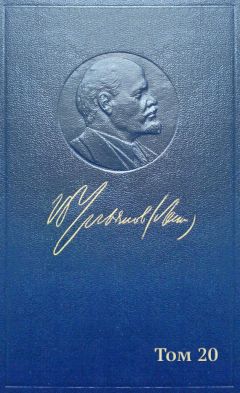– Барышня, пожалуйста, три, тридцать три. Ах, Валентина Васильевна, это вы? Извиняюсь, что еще раз побеспокоил! Сейчас был мой шофер и сообщил: к несчастью, ваш автомобиль действительно испорчен. Смею вам предложить свою машину? Благодарю. Я привезу вас и отвезу с быстротой ветра. Если прикажете, я буду всю дорогу молчать, как раб. Благодарю, благодарю вас!
В это время аппарат прервался, Абрам Семенович спросил: «Что, что?» – и, соединясь со станцией, грубым уже голосом принялся кричать на телефонную барышню, грозя пожаловаться, спрашивая, знает ли она, с кем говорит?
Около этого же времени Сатурнов сбросил с себя ватошное пальто, под которым спал на диване, и хриплым голосом крикнул с полатей:
– Кто там?
– Вас к телефону, – ответил снизу из темноты детский голос. Александр Алексеевич, очень недовольный, натянул пальто и пошел через двор в парадный подъезд. Говорил Абозов. Он очень извинялся, что потревожил, но звонил уже по многим телефонам, никого не застал дома и просил Александра Алексеевича передать Волгину, Поливанскому и Белокопытову, что не может, как обещал, прийти в «Подземную клюкву», потому что вообще не хочет теперь никакой суеты. Никто, а тем более художник, не имеет права растрачивать время и здоровье на сомнительные удовольствия. Надо делать дело.
– Вы только за этим меня через весь двор погнали, – ответил Сатурнов, – черт вас подери! – И он повесил трубку. Все же сон разогнали, свежий воздух приподнял измятые нервы, нужно было куда-нибудь поехать, не сидеть в полутемном сарае одному. Посредине двора он остановился и поднял голову. Сырые клубы облаков, освещаемые с улицы фонарями, тащились медленно над самыми крышами, – и оттуда, с неба, несло ледяной сыростью, как из погреба. Сатурнов провел рукою по лицу, натянул повыше пальто, поднял плечи и повернул к телефону, попросив затем барышню включить номер три, тридцать три.
Валентина Васильевна сидела в ярком свету перед тремя зеркалами и полировала камнем и без того сияющие, как драгоценность, острые ногти. Парикмахер, в серой визитке, надушенный, с пышными усами, томно-бледный француз, завивал ей волосы, поднося щипцы то к носу, то быстро крутя ими.
В спальне, обитой сиреневым шелком, было тепло, пахло пудрой и щипцами. На белом ковре разбросаны чулки, туфельки и белье. Посреди широкой и низкой кровати, покрытой кружевами, спал серый сибирский кот.
Медленно поднимая глаза от ногтей, Валентина Васильевна взглядывала в зеркало на француза и спрашивала:
– Люи, что нужно делать, когда женщине скучно?
– Мадам, – отвечал Люи, закрутив щипцами, – когда женщине скучно, ей нужно завести (gagner) себе нового любовника.
Кроме подобных фраз, входящих в его ремесло, он был скромен.
Валентина Васильевна раздвинула улыбкою губы.
– Воображаю, – продолжала она, – сколько у вас приключений каждый день; вы должны нравиться женщинам известного сорта.
– О мадам, вы заставляете меня сожалеть, что я всего маленький француз.
– Вы слишком скромны, Люи. Я хочу знать, что вы делаете со своими любовницами?
– Я стараюсь доставить им как можно больше удовольствия, мадам.
В это время зазвонил поставленный между зеркалами серебряный телефон. Валентина Васильевна, облокотясь голым локтем о туалет, взяла трубку:
– Ах, это вы, Александр Алексеевич! Да, я еду. Одеваюсь, – сказала она, и трубка затрещала ей в ухо голосом Сатурнова:
– Мне скучно. Я хочу тебя видеть. Я знаю, что это безумно и бессмысленно: опять начнется тоска на целые месяцы. Валентина, но, может быть, сегодня ночью ты будешь прихотливой.
– Не понимаю, – ответила Валентина Васильевна холодно.
– Ты понимаешь! Твои капризы опускаются даже до Гнилоедова. Он отлично это знает и ждет терпеливо. Но я, значит, совсем уже не существую для тебя? Подожди, ты встретишься с настоящим человеком, он тебя заставит страдать.
– Посмотрим, – сказала она.
– Да, и я знаю, кто этот человек: Егор Иванович. Ты его для себя выдерживаешь, чтобы хорошенько намучился. А он только что звонил мне: он знает, что ты будешь в «Клюкве», и нарочно не придет. А я приду и буду за тебя пить, пока не свалюсь под стол. Таким способом, пожалуй, и удастся обнять тебя за ноги.
Он засмеялся и закашлялся. Валентина Васильевна задумчиво положила трубку. Люи приколол ей к волосам эспри, попятился, прищурясь, подобрал один из локонов повыше, уложил инструменты и вышел с низким поклоном. Горничная внесла бальное платье из черного бархата. Валентина Васильевна поднялась, дала себя одеть и вновь присела между зеркалами.
– Подите, – сказала она горничной, – подите и принесите мне ореховую шкатулку.
Гримировальным карандашом она тронула густые ресницы, надушила запахом rue de la Paix виски, губы и грудь, взяла у горничной шкатулку и принялась перебирать письма, двигая, как оса, бровями.
На конверте письма Егора Ивановича карандашом был записан адрес и телефон; Валентина Васильевна перечла письмо, лицо ее стало злым и твердым; она созвонилась и приказала позвать к телефону Абозова.
Егор Иванович выспался днем, и голова, болевшая после попойки, была теперь совсем ясной. Он сидел в свету рабочей лампы и заново переписывал первую главу новой повести, радуясь неожиданной легкости и четкости, с какою образы претворялись в слова, стекая затем с кончика пера на лист хрустящей бумаги То улыбаясь смешным местам, то хмуря брови, он откидывался на спинку стула и, затягиваясь папиросой, часто мигал. Зеленая лампа, стол, запотевшее окошко отодвигались перед его взором, немного безумным, потому что он глядел сейчас за тысячу верст, на улицы захолустного городка, разглядывал странные лица, быть может никогда не существовавшие на самом деле, созерцал то, чего не было, но что становилось с этой минуты сущим.
За таким странным занятием застал его швейцар, пришедший звать к телефону. Егор Иванович, прыгая через ступеньки, сбежал вниз, готовясь на все уговоры приехать в «Клюкву», – а звонили, очевидно, за этим, – ответить коротко: «Я работаю».
Он схватил трубку, проговорил:
– Я у телефона, – и сейчас же, закрыв глаза, опустился на стул.
Чудесный, как музыка, нежный, обольстительный голос Валентины Васильевны проговорил из таинственной темноты:
– Скажите-ка, что с вами приключилось? Не кажете глаз. Не звоните. А я слышала – занимаетесь кутежами На что это похоже, милый Кулик? Я непременно хочу видеть вас вечером. Если хотите от женщины признанья, так вот – я по вас соскучилась. Сегодня утром проснулась и подумала, что весь день буду скучать по вас. Я была уверена – вы позвоните… Сегодняшняя ночь в «Клюкве» будет маленьким сумасшествием. Хотите?
Егор Иванович видел ее наклоненную шею, темные волосы, падающие волной на затылок, чувствовал, как раскрываются ее губы. Восторг, тоска, робость охватили его.
– Я работаю, – проговорил он, едва сдерживая трясущуюся челюсть.
– Ах, вы работаете, тогда бог с вами, голубчик, трудитесь на здоровье, – проговорила она, и телефон прервался.
Схватившись за голову, Егор Иванович глядел в немой теперь аппарат. Хлопнула парадная дверь; мимо прошла Марья Никаноровна, удивленно остановилась, хотела что-то сказать, но, опустив глаза, быстро стала подниматься по ступенькам.
Он бессмысленно глядел ей вслед и вдруг кинулся к швейцару:
– Послушайте, голубчик, мне нужна справочная, телефон одной дамы, как это сделать? Впрочем, не нужно, я еду! Пожалуйста, подрядите извозчика на Михайловскую!
Он побежал наверх и, догнав Марью Никаноровну, сказал:
– Маша, вот – решается моя судьба.
Жестяной чертик светил на крутую лестницу, уводящую под землю. Сбежав, Егор Иванович распахнул обитую войлоком дверь, и в лицо ему пахнуло жаром гулкого, душного и пряного воздуха. Поспешно сбросив пальто и шапку, он раздвинул портьеру.
На несколько ступеней ниже его сводчатый красный пестрый подвал был тесно набит людьми. Ударили в голову гул голосов, обрывки музыки и смеха и хлопанье шампанских пробок. Среди столиков, бутылок и цветов двигались голые плечи, голые руки, покачивались головы, раскрывались рты. Фраки казались черноземом, на котором жили тропические насекомые. Поднимались фигуры, чокались стаканами и вновь опускались. На эстраде Иванушко, приложив руки ко рту, кричал беззвучно.
Егор Иванович, пробираясь вдоль стены, искоса поглядывал на все это. Он боялся первой минуты, когда увидит лицо Валентины Васильевны. Он чувствовал, что не помнит его, и было бы хорошо поглядеть издалека и не сразу.
В нише огромного очага сидели две бледные девушки; нежно обернувшись к Абозову, они сладко ему улыбнулись. Представленный Коржевским, он нагнулся и поцеловал теплые их крошечные руки, подумав: «Какие милочки». Девушки, подняв головы, затараторили, перебивая одна другую. Он же, глядя на огонь в очаге, слушал и отвечал, как во сне. Из-за шума долетел голос Волгина: «Абозов, иди к нам». В той стороне, на эстраде, подпрыгивал белый Пьеро, взмахивал длинными рукавами. Вокруг было многотемных женских волос, но ни одни не заколоты высоким резным гребнем. У зеркала критик Полынов, мучаясь астмой, открывал рот. Мелькнуло в профиль мистическое лицо Шишкова. Из-за женской спины высунулся Сливянский. Столбом стоял Зигзаг, держа согнутую руку на цветке в петлице. В углу расселся кучей вспотевшего мяса Хлопов. Пьеро исчез. На место его выбежал потертый актер в детском колпачке и запел: