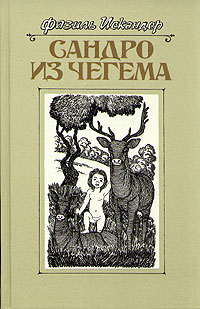своим сыновьям.
Когда у дяди Кязыма мухусские врачи заподозрили рак, я его отвез в Москву. Там в течение нескольких дней ему делали всевозможные анализы, просвечивали рентгеном, и наконец женщина-профессор приняла нас у себя в кабинете и, перелистывая страницы анализов, сказала, что беспокоиться не о чем, самые тяжкие подозрения не подтвердились.
Я радостно переводил дяде Кязыму все, что она говорила, но на его прекрасном суровом лице ничего не отразилось. Конечно, он был доволен ее словами, но считал недостойным откровенно радоваться за собственную жизнь.
Когда мы выходили из кабинета, вторая докторша, до этого молча сидевшая рядом с профессором, каким-то образом незаметно меня оттеснила, дядя вышел, а я остался в кабинете…
– К сожалению, все подтвердилось, – сказала женщина-профессор, – жить ему осталось не больше полугода…
Потрясенный этим перепадом от надежды к смертному приговору, я вышел из кабинета и присоединился к дяде. Не знаю, догадывался ли он о чем-нибудь. Во всяком случае, я делал вид, что ничего не случилось.
Мы проходили мимо киоска, где продавали арбузы. Мы купили один арбуз, зашли в сквер и, разрезая его дядиным ножом, съели.
В Москве дядя со свойственной ему сдержанностью ничему не удивлялся, все принимал как должное, только удивлялся полному отсутствию гор и терпеливо дожидался нашего отъезда.
Через полгода его не стало. Я любил этого человека и с детства восхищался им, не особенно понимая природу своего восхищения. Я его видел у себя в деревне, в родной ему среде, видел в городе среди чужих людей, и везде он был самим собой – ни перед кем не заискивающий, всегда доброжелательно-насмешливый. Сейчас, пытаясь найти слова, чтобы обозначить его сущность, я могу сказать, что в нем чувствовалась необычайная духовная значительность.
В городском застолье, среди малознакомых людей, он не только не тушевался, как это бывает с крестьянами, но, наоборот, казалось, что переодетый король Лир сидит среди убогих мещан.
И откуда что бралось! Это всегдашнее легкое презрение к еде (к любой еде), это умение слушать собеседника, не выскакивать вперед, это благородство пропускать мимо ушей общие места, которые высказывает собеседник, ухватывать и развивать крупицы остроумия, наблюдательности в чужих речах и эта всегдашняя мягкая настойчивость, с которой он утверждал то, что считал правильным.
Однажды при мне он плотничал в табачном сарае, когда из-за перевала прямо над нами низко-низко со страшным грохотом пролетел самолет.
– Как это летчик от него не оглохнет, – сказал крестьянин, стоявший рядом, – когда нас и то он оглушил?
– Видно, самолет обгоняет собственный звук, – сказал дядя, подумав, – поэтому летчику не так слышно.
Пусть тогда не было самолетов, обгоняющих собственный звук, но это сказал неграмотный человек, ставивший крестик вместо подписи, никогда не знавший железа в более сложном сочетании, чем обыкновенный плуг.
– Ведь каждая травинка – это скот, – с пронзительной горечью сказал он в другой раз. Через эту пронзительную горечь и запомнилась мне эта фраза. И сейчас, взрослым, вспоминая ее, я догадываюсь о причине, по которой она была сказана, догадываюсь, сколько пережитого и передуманного стоит за ней.
…Мы с дядей Сандро спустились к нашему знаменитому роднику. Струя воды толщиной с человеческую руку, некогда бившая из-под скалы, превратилась в еле заметный ручеек. Чтобы напиться из него, приходилось губами дотрагиваться до камешков на дне. А вода! Разве это та ледяная кристальная струя?!
Можно понять, что родник зачах без присмотра, задохнулся, но почему вода стала теплой, этого я никак не могу понять.
Благодаря этому роднику, который дедушка здесь открыл, он и выбрал это место для жизни и зажил здесь когда-то.
Мы снова поднялись наверх и решили спуститься в котловину Сабида, заглянув по дороге на наше семейное кладбище. Но сделать это нам не удалось, потому что кладбище обросло непроходимой стеной колючих зарослей. С какой хищной быстротой возвращает себе природа отвоеванные у нее когда-то земли!
С того места, где мы стояли, хорошо был виден обросший плющом кусок крепости, обломок Великой Абхазской стены. У этой крепостной стены мы в детстве, играя, откапывали древние кости каких-то людей, захороненных когда-то в этом месте.
И кто его знает, кто снова явится откуда-нибудь в Чегем, как когда-то наш дедушка. И он очистит участок земли, где сейчас расположены наши могилы, от которых к тому времени не останется и следа, и только дети этого человека, играя, как мы когда-то, будут откапывать в пахоте кости наших близких, удивляясь и гадая, что за люди здесь когда-то жили.
Мы спустились в котловину Сабида. Травянистый склон, где некогда стоял молельный орех, сейчас оброс почти доверху молодым ольшаником. Молельный орех рухнул, должно быть от старости. Его гигантский ствол уходил вниз, на самое дно котловины, во мглу кавказских джунглей.
Я взобрался на ствол и стал спускаться по нему вниз, кое-где огибая его толстые ветки. Так я прошел метров пятьдесят, и чем дальше я шел, тем трудней становилось идти, потому что колючие заросли облепляли его со всех сторон.
Вокруг меня плотной стеной вставали обвитые лианами и заколюченные ежевикой стволы каштанов, буков, грабов, дикой хурмы. В воздухе стоял щебет птиц и могучий запах одновременно цветущей и гниющей плоти лесов.
Где-то совсем недалеко раздалось тревожное и короткое блеяние косули. Я снял с плеча карабин и стал вглядываться в непроглядную зеленую мглу, откуда раздался голос косули. Еще несколько раз тревожно, дурным голосом проблеяла косуля, но спуститься со ствола и пробраться сквозь эти опутывающие и стреноживающие заросли не представлялось возможным. Я повернул и снова поднялся по стволу к подножию молельного ореха, где ждал меня дядя Сандро.
Мы поднялись наверх и снова вошли в дедушкин двор. Посреди двора все еще паслись неведомые коровы. Одна из них побрякивала колокольцем. Библейский звук жизни и запустения.
Я снял с плеча карабин, положил его на землю, разулся и полез на яблоню рвать виноград. Дядя Сандро ушел на родник поить лошадей. Через некоторое время я услышал, что меня кто-то окликает снизу. Это был Кунта. Меня он, конечно, не узнал. Небольшое стадо коз вливалось во двор.
Не очень уверенным голосом Кунта просил меня не трогать виноград, так как колхоз передал ему право собирать