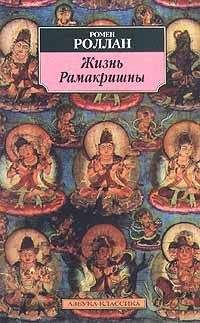Герен и Гюртелу нравились Оливье, но они не могли быть подходящим для него обществом: ему почти не о чем было с ними говорить. Маленький Эмманюэль гораздо больше занимал его; он навещал его почти каждый вечер. После того разговора в ребенке совершился переворот. Он с неистовой жаждой знания набросился на чтение. Книги приводили его в какое-то ошалелое состояние. Он казался не таким умным, как прежде, и почти не разговаривал. Оливье удавалось выжать из него лишь какие-то односложные слова; на все вопросы ребенок отвечал невпопад. Оливье приходил в уныние; он старался ничем этого не показать, но думал, что ошибся и что мальчик совсем дурачок. Он не видел огромной работы лихорадочного роста, совершавшейся в этой душе. Он был плохой педагог, скорее способный разбросать наудачу по полю пригоршни хорошего зерна, чем выполоть землю и проложить борозды. Присутствие Кристофа усиливало его смущение. Оливье стеснялся показывать другу своего маленького любимца; ему стыдно было за глупость Эмманюэля, который положительно становился несносным в присутствии Кристофа. Ребенок упорно замыкался тогда в какую-то суровую немоту. Он ненавидел Кристофа за то, что Оливье его любил; он не мог вынести, чтобы кто-то другой занимал место в сердце его учителя. Ни Кристоф, ни Оливье не подозревали неистовства любви и ревности, терзавших детскую душу. А между тем Кристоф сам когда-то прошел через это! Но он не узнавал себя в этом существе, выплавленном из иного, чем он, металла. В этом темном сплаве нездоровых наследственных инстинктов все — и любовь, и ненависть, и дремлющий талант — звучало по-иному.
Приближалось Первое мая.
Тревожные слухи носились по Парижу. Бахвалы из Всеобщей конфедерации труда способствовали их распространению. Их газеты возвещали наступление великого дня, созывали рабочую милицию и бросали боевой клич, который ударял буржуазию по самому чувствительному месту: по брюху. Feri ventrem![5] Они угрожали ей всеобщей забастовкой. Перепуганные парижане уезжали в деревню либо запасались съестными припасами, точно перед осадой. Кристоф встретил Кане в автомобиле, нагруженном двумя окороками и мешком картофеля; он был вне себя; он уже толком не знал, к какой партии принадлежит; он примыкал то к старым республиканцам, то к роялистам, то к революционерам. Его культ насилия стал теперь точно обезумевшим компасом, стрелка которого перескакивала с севера на юг и с юга на север. На людях он продолжал вторить бахвальству своих друзей, но in petio[6] готов был ухватиться за первого попавшегося диктатора, чтобы прогнать красный призрак.
Кристоф смеялся над этой всеобщей паникой. Он был убежден, что ничего не случится. Оливье был не так твердо уверен в этом. Его буржуазное происхождение навсегда оставило в нем отголосок того трепета, который вызывают в буржуазии воспоминание о Революции и ожидание ее.
— Полно, — говорил Кристоф, — можешь спать спокойно! Не завтра она наступит, твоя Революция. Все вы ее боитесь. Страх побоев… Всюду страх. В буржуазии, в народе, во всей нации, во всех нациях Запада. У людей слишком мало осталось крови, они боятся ее терять. Вот уже сорок лет, как все совершается только на словах. Вспомни-ка ваше пресловутое дело. Мало ли вы кричали: «Смерть! Кровь? Резня!..» Эх вы, гасконцы! Сколько слюны и чернил! А много ли капель крови?
— Особенно на это не рассчитывай, — отвечал Оливье. — Эта боязнь крови — только тайное предчувствие, что при первой же капле крови маска цивилизации спадет, зверь остервенеет, и бог знает, удастся ли тогда надеть на него намордник. Каждый колеблется начать войну, но, когда война разразится, она будет ужасна…
Кристоф пожимал плечами и говорил, что неспроста герои дня — бахвал Сирано и хвастунишка-цыпленок Шантеклер — герои на словах.
Оливье только покачивал головой. Он знал, что во Франции все начинается с бахвальства. Однако он не более Кристофа верил в назначенную на Первое мая Революцию: слишком уж нашумели о ней, и правительство было настороже. Вернее всего стратеги восстания отложат битву до более удобного момента.
Во второй половине апреля у Оливье был приступ: каждую зиму примерно в одних и тех же числах он заболевал гриппом, и это будило застарелый бронхит. Кристоф переселился к нему на несколько дней. Болезнь была легкой и прошла быстро. Но она, как обычно бывало у Оливье, повлекла за собой душевную и физическую усталость, оставшуюся и после того, как спал «ар. Оливье лежал в постели, не имея никакого желания двигаться, он лежал, глядя на Кристофа, а тот, сидя к нему спиной, работал за его столом.
Кристоф был всецело поглощен работой. Иногда, уставая писать, он вскакивал и подбегал к роялю; он играл не то, что написал, а то, что приходило ему в голову. И тут произошло нечто странное. То, что он писал, задумано было в его прежнем стиле, а те вещи, что он играл, казалось, исходили от другого человека. Это был мир с дыханием хриплым и прерывистым. Было здесь что-то бессвязное, буйное или беспомощное — смятение, ничем не напоминавшее могучую логику, царившую во всей остальной его музыке. Казалось, эти необдуманные импровизации, ускользавшие от сознания и вырывавшиеся, как вопль зверя, скорее из недр плоти, чем из мысли, указывали на душевную неуравновешенность, на грозу, готовящуюся в недрах будущего. Кристоф не сознавал этого, но Оливье слушал, смотрел на Кристофа, и его охватывала смутная тревога. Слабость делала его странно проницательным, дальновидным: он видел то, чего никто другой не замечал.
Взяв последний аккорд, Кристоф остановился, растерянный, весь в испарине, обвел комнату мутным еще взглядом и, встретив взгляд Оливье, рассмеялся и вернулся к столу. Оливье спросил:
— Что это было, Кристоф?
— Ничего, — промолвил Кристоф. — Я взбаламучиваю воду, чтобы приманить рыбу.
— Ты это запишешь?
— Это? Что — это?
— То, что ты сказал.
— А что я сказал? Я уже не помню.
— Но о чем же ты думал?
— Сам не знаю, — ответил Кристоф, проводя рукою по лбу.
Он снова принялся писать. И снова в комнате друзей воцарилась тишина. Оливье продолжал смотреть на Кристофа. Кристоф почувствовал этот взгляд и обернулся. Глаза Оливье следили за ним с глубокой любовью.
— Лентяй! — весело сказал он.
Оливье вздохнул.
— Что с тобой? — спросил Кристоф.
— Ах, Кристоф! Как много в тебе всего заложено! Подумать только, что здесь, подле меня, таится столько сокровищ, которые ты раздаешь другим, а я не получу своей доли!..
— Да ты рехнулся! Что это на тебя нашло?
— Какова будет твоя жизнь? Через какие опасности, через какие испытания ты еще пройдешь?.. Я так хотел бы быть с тобою… Ничего этого я не увижу. Я глупо застряну в пути.
— Что касается глупости, то глуп ты безусловно. Уж не думаешь ли ты, чего доброго, что, если бы ты даже этого захотел, я покинул бы тебя в пути?
— Ты забудешь меня, — сказал Оливье.
Кристоф поднялся и присел на кровати, подле Оливье; он взял кисти его слабых рук, влажные от испарины. В распахнутый ворот рубахи видна была тощая грудь, кожа, тонкая и натянутая, как парус, вздутый дыханием ветра и вот-вот готовый разорваться. Крепкие пальцы Кристофа неловко застегнули ворот. Оливье не противился.
— Милый Кристоф! — нежно сказал он. — У меня все-таки было большое счастье в жизни!
— Ну вот еще! Что за дурацкие мысли! — сказал Кристоф. — Ты так же здоров, как и я.
— Да, — подтвердил Оливье.
— Так зачем же ты мелешь чепуху?
— Не сердись, — со смущенной улыбкой оказал Оливье. — Это у меня от гриппа.
— Надо встряхнуться. Ну-ка! Подымайся!
— Не сейчас. Попозже.
Он продолжал мечтать. На следующий день он встал. Но лишь для того, чтобы помечтать, сидя у камина.
Апрель стоял мягкий и пасмурный. В теплой дымке серебристых туманов показались первые зеленые листья, невидимые птицы воспевали скрытое за облаками солнце. Оливье разматывал пряжу своих воспоминаний. Он снова видел себя ребенком, рядом с плачущей матерью, в поезде, уносящем его куда-то сквозь туманы из родного городка. Антуанетта сидела одна, в другом углу вагона. Нежные профили, тонкие пейзажи всплывали перед его взором. Прекрасные стихи возникали сами собою, укладываясь в размеренные слова и певучие ритмы. Он сидел около стола; стоило только протянуть руку, чтобы взять перо и записать эти поэтические видения. Но у него не хватало воли; он устал; он знал, что аромат этих грез испарится, лишь только он вздумает их запечатлеть. И так всегда: лучшее, что было в нем, не находило выражения; дух его был словно долина, покрытая цветами, но никто не имел туда доступа, и цветы, едва сорванные, уже увядали. Изнемогая от томления, выжили лишь некоторые из них, — несколько хрупких новелл, несколько стихотворений, от которых сладостно веяло умиранием. Это творческое бессилие было величайшим горем Оливье. Чувствовать в себе столько жизни, которую нельзя уберечь!.. Теперь он смирился. Для того чтобы цвести, цветам не нужно, чтобы их видели. Они еще прекраснее в полях, где их не срывает ничья рука. Блаженны поля в цветах, грезящие о солнце. Солнца-то ведь не было, но мечты Оливье цвели от этого лишь пышнее. Сколько историй, печальных, нежных, фантастических, рассказал он себе в эти дни! Они появлялись неизвестно откуда, скользили, как белые облака в летнем небе, рассеивались в воздухе; за ними вслед являлись другие; он был переполнен ими. Иногда небо оставалось пустынным; ослепленный сиянием, Оливье ждал того мгновенья, когда, снова развернув крылья, выплывали безмолвные ладьи его мечтаний.