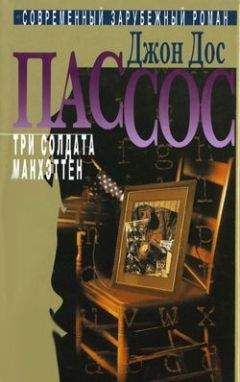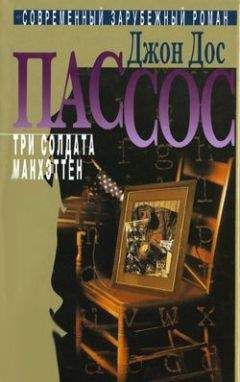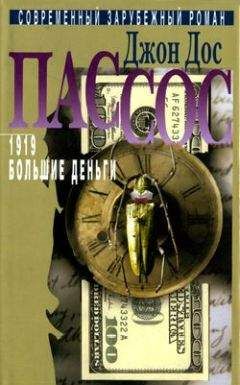– Войдите, – сказал Джимми и отвернулся к окну, заметив, что лакей чужой, не Пат.
Лакей зажег электричество. Джимми увидел его отражение в оконном стекле: худой, стриженый человек держал в одной руке на весу поднос с серебряными судками, похожими на церковные купола. Лакей, отдуваясь, прошел в глубь комнаты, волоча свободной рукой сложенный столик. Он толчком раскрыл его, поставил на него поднос, а круглый стол накрыл скатертью. От него жирно пахло кухней. Джимми подождал, пока он не ушел, и повернулся. Он обошел стол, приподымая серебряные крышки; суп с маленькими зелеными штучками, жареная баранина, картофельное пюре, тертая брюква, шпинат и никакого десерта.
– Мамочка!
– Да, дорогой? – донесся слабый голос из-за закрытой двери.
– Обед подан, мамочка.
– Кушай, мальчик, я сейчас приду.
– Я не хочу без тебя, мамочка.
Он еще раз обошел стол, привел в порядок ножи и вилки. Он перекинул салфетку через руку. Метрдотель ресторана Дельмонико[87] накрывал стол для слепого богемского короля и принца Генриха Мореплавателя…[88]
– Мама, кем ты хочешь быть – королевой Марией Стюарт или леди Джейн Грей?[89]
– Но им обеим отрубили голову, золото мое. Я не хочу, чтобы мне отрубили голову.
Мать была одета в розовое платье. Когда она открыла дверь, вялый запах, запах одеколона и лекарств проник из спальни, потянулся за ее длинными, отороченными кружевами, рукавами. Она напудрилась чуточку больше, чем следовало, но ее пышные каштановые волосы были убраны очень красиво. Они уселись друг против друга; она подала ему тарелку супа, держа ее двумя руками с голубыми жилками.
Он ел суп, водянистый и недостаточно горячий.
– Ах, детка, я забыла про гренки!
– Мамочка… мама, почему ты не ешь?
– Мне сегодня что-то не хочется есть. Не знаю, что мне делать. У меня очень болит голова. Впрочем, это неважно.
– А может быть, ты хочешь быть Клеопатрой? У нее был чудный аппетит, и она съедала все, что ей давали. Она была пай-девочка.
– Даже жемчуг… Она опустила жемчужину в уксус и выпила его… – Ее голос дрожал.
Она протянула ему руку через стол; он погладил ее руку, как мужчина, и улыбнулся.
– Только ты и я, Джимми, мой мальчик… Солнышко, ты всегда будешь любить твою маму?
– Что случилось, мамочка, милая?
– О, ничего. Я себя чувствую сегодня как-то странно. Я так устала от этого вечного нездоровья.
– Но после операции…
– Да, после операции… Пожалуйста, дорогой, в ванной на подоконнике есть свежее масло. Я положу немного в пюре, если ты принесешь. Придется опять сделать Замечание насчет стола. Баранина совсем неважная – надеюсь, что мы от нее не заболеем.
Джимми побежал через комнату матери в узенький коридор, где пахло нафталином и шелковыми платьями, разложенными на стуле. Красный резиновый наконечник душа качнулся ему в лицо, когда он открыл дверь ванной. От запаха лекарств у него болезненно сжались ребра. Он открыл окно за ванной. Подоконник был пыльный, и пушистая копоть осела на тарелке, которой было прикрыто масло. Он стоял несколько секунд, глядя во двор, дыша ртом, чтобы не чувствовать запаха угольного газа, поднимавшегося из топки. Под ним горничная, в белой наколке, высунувшись из окна, разговаривала с истопником; истопник смотрел вверх, скрестив на груди голые, сильные руки. Джимми напряг слух, чтобы услышать, о чем они говорят; быть грязным и весь день таскать уголь, и чтобы волосы были жирные и руки грязные до подмышек.
– Джимми!
– Иду, мамочка. – Вспыхнув, он захлопнул окно и пошел в столовую как можно медленнее, чтобы румянец сбежал с лица.
– Опять замечтался, Джимми. Мой маленький мечтатель…
Он поставил масло возле тарелки матери и сел.
– Ешь скорее баранину, пока она горячая. Почему ты не берешь горчицы? Будет гораздо вкуснее.
Горчица обожгла ему язык, из глаз покатились слезы.
– Слишком острая? – смеясь, спросила мать. – Надо привыкать к острым вещам… Он любил все острое.
– Кто, мама?
– Тот, кого я очень любила.
Сидели молча. Слышно было, как работают его челюсти. Изредка сквозь закрытые окна долетал прерывистый грохот экипажей и трамваев. В трубах отопления щелкало и стучало. Во дворе истопник, весь вымазанный маслом, шлепая дряблыми губами, говорил какие-то слова горничной в крахмальной наколке – грязные слова. Горчица такого цвета, как…
– О чем ты думаешь?
– Ни о чем.
– У нас не должно быть тайн друг от друга, дорогой. Помни, ты у меня единственное утешение.
– Как ты думаешь, интересно быть тюленем?
– По-моему, очень холодно.
– Нет, холод не чувствуется… Тюлени защищены слоем жира – им всегда тепло, даже на льдине. Это было бы ужасно смешно… Можно плавать по морю, когда тебе захочется. Тюлени проплывают тысячи миль без остановки.
– Мамочка тоже плыла тысячи миль без остановки, и ты тоже.
– Когда?
– А когда мы ездили за границу и обратно. – Она смеялась, глядя на него сияющими глазами.
– Так ведь мы на пароходе…
– А когда мы плавали на «Марии Стюарт»…
– Мамочка, расскажи.
В дверь постучали.
– Войдите!
Показалась стриженая голова лакея.
– Можно убирать, мадам?
– Да, и принесите компот, но только из свежих фруктов. Сегодня обед был очень невкусный.
Лакей, отдуваясь, собрал тарелки на поднос.
– Очень жаль, мадам.
– Ну ничего, я знаю, что это не ваша вина. Что ты закажешь, Джимми?
– Можно мне безе с сиропом?
– Хорошо, если ты будешь умницей.
– Буду! – взвизгнул Джимми.
– Милый, нельзя так кричать за столом.
– Ну ничего, мамочка. Мы только вдвоем… Ура! Безе с сиропом!
– Джеймс, джентльмен ведет себя одинаково прилично как дома, так и в дебрях Африки.
– Ах, если бы мы были в дебрях Африки!
– Но мне было бы там страшно.
– Я кричал бы, как сейчас, и разогнал бы львов и тигров.
Лакей вернулся с двумя тарелками на подносе.
– К сожалению, мадам, пирожные кончились. Я принес молодому джентльмену шоколадное мороженое.
– Ой, мамочка…
– Не огорчайся, милый. Это тоже вкусно. Кушай, а потом можешь сбегать вниз за конфетами.
– Мамочка, дорогая…
– Только не ешь мороженое так быстро… Ты простудишься.
– Я уже кончил.
– Ты проглотил его, маленький негодяй! Надень калоши, детка.
– Но дождика ведь нет.
– Слушай маму, дорогой, и, пожалуйста, не ходи долго. Дай слово, что ты скоро вернешься. Мама нехорошо себя чувствует сегодня и очень нервничает, когда ты на улице. Там столько опасностей…
Он присел, чтобы надеть калоши. Пока он натягивал их, она подошла к нему и протянула доллар. Рука ее в длинном шелковом рукаве легла на его плечо.
– Дорогой мой… – Она плакала.
– Мамочка, не надо. – Он крепко обнял ее; он чувствовал под рукой пластинки корсета. – Я вернусь через минутку, через самую маленькую минутку.
На лестнице, где медные палки придерживали на ступенях темно-красную дорожку, Джимми снял калоши и засунул их в карманы дождевика. Высоко вскинув голову, он прорвался сквозь паутину молящих взглядов рассыльных мальчишек, сидевших на скамье у конторки. «Гулять идете?» – спросил самый младший, белобрысый мальчик. Джимми сосредоточенно кивнул, шмыгнул мимо сверкающих пуговиц швейцара и вышел на Бродвей, полный звона, топота и лиц; когда лица выходили из полосы света от витрин и дуговых фонарей, на них ложились теневые маски. Он прошел мимо отеля «Ансония».[90] На пороге стоял чернобровый человек с сигарой во рту, – может быть, похититель детей. Нет, в «Ансонии» живут хорошие люди – такие же, как в нашем отеле. Телеграфная контора, бакалейная лавка, красильня, китайская прачечная, издающая острый, таинственный, влажный запах. Он ускорил шаги. Китайцы – страшные; они крадут детей. Подковы. Человек с керосиновым бидоном прошел мимо него, задев его жирным рукавом. Запах пота и керосина. Вдруг это поджигатель? Мысль о поджигателе заставила его содрогнуться. Пожар. Пожар.
Кондитерская Хьюлера; из дверей – уютный запах никеля и хорошо вымытого мрамора, а из-под решетки, что под окнами, вьется теплый аромат варящегося шоколада. Черные и оранжевые фестоны в окнах. Он уже хочет войти, но вспоминает о «Зеркальной кондитерской» – это два квартала дальше; там вместе со сдачей дают маленький паровоз или автомобиль. Надо торопиться; на роликах было бы гораздо быстрее, можно убежать от бандитов, шпаны, налетчиков; на роликах, стреляя через плечо из большого револьвера. Бах! – один упал; это самый главный. Бах! – по кирпичной стене дома, по крышам, мимо изогнутых труб, на дом Утюг, по стропилам Бруклинского моста…
«Зеркальная кондитерская». Он входит без колебаний. Он стоит у прилавка, ожидая, пока освободится продавщица.
– Пожалуйста, фунт смеси за пятьдесят центов, – барабанит он.
Она блондинка, чуть косит и смотрит на него недружелюбно, не отвечая.