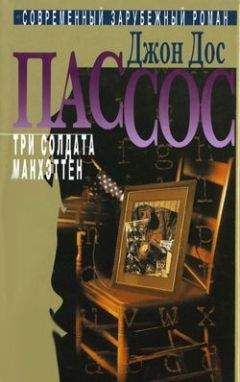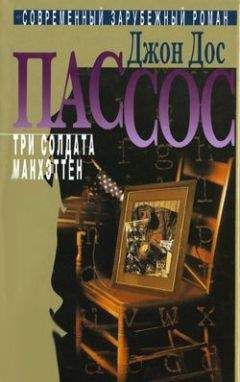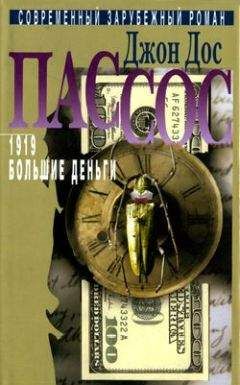– Я ненавижу их, я ненавижу их! – закричал он.
Потом, сдерживая сухие рыдания, погасил свет и скользнул в кровать, на холодную, как лед, простыню.
– У вас столько дел и хлопот, мадам, – говорит Эмиль певучим голосом, – что вам необходимо завести помощника в лавке.
– Знаю… Я убиваю себя работой. Я знаю, – вздыхала мадам Риго, сидя за кассой.
Эмиль долго молчал, глядя на большой кусок вестфальской ветчины, лежавший на мраморной доске около его локтя. Потом застенчиво сказал:
– Такая женщина, как вы, такая красивая женщина, как вы, мадам Риго, никогда не останется без друзей.
– Ah ça…[92] Я слишком много пережила… Я больше никому не верю. Все мужчины – грубые животные, а женщины… О, с женщинами я совсем не сближаюсь.
– История и литература… – начал Эмиль.
Задребезжал дверной колокольчик. Мужчина и женщина вошли в лавку. У нее были желтые волосы и шляпа, напоминающая цветочную клумбу.
– Только не будь расточителен, Билли, – говорила она.
– Но, Нора, должны же мы что-нибудь поесть. В субботу у меня будут деньги.
– Ничего у тебя не будет, если ты не бросишь играть.
– Ах, отстань, ради Бога. Возьмем ливерной колбасы. Кажется, холодная индейка хороша.
– Поросенок, – проворковала желтоволосая девица.
– Отстань от меня, я возьму индейку.
– Да, сэр, индейка очень хорошая. Есть прекрасные цыплята, еще совсем горячие. Emile, mon ami, cherchez moi un d ces petits poulets dans la cuisin-e.
Мадам Риго говорила точно оракул, неподвижно восседая на своей табуретке за кассой. Мужчина обмахивался широкополой соломенной шляпой с клетчатой лентой.
– Жарко сегодня, – сказала мадам Риго.
– И как еще!.. Знаешь, Нора, лучше было бы поехать на Кони-Айленд,[93] чем задыхаться в городе.
– Билли, ты же знаешь очень хорошо, почему мы не можем поехать.
– Довольно тебе хныкать. Я же тебе говорю: в субботу все будет в порядке!
– История и литература… – продолжал Эмиль, когда покупатели ушли, унося цыпленка и оставив мадам Риго полдоллара серебром (она тут же заперла их в кассу). – История и литература учат нас, что бывает дружба… что иногда встречается любовь, достойная доверия…
– История и литература, – смеясь, пробурчала мадам Риго, – хорошая штука.
– Но разве вы никогда не чувствовали себя одинокой в этом большом, чужом городе? Так все тяжело! Женщины глядят вам в карман, а не в сердце. Я не могу это больше выносить.
Широкие плечи и толстые груди мадам Риго заколыхались от смеха. Ее корсет затрещал, когда она, смеясь, поднялась с табурета.
– Эмиль, вы красивый малый, и притом вы настойчивы. Вы далеко пойдете… Но я никогда не отдам себя снова во власть мужчины. Я слишком много страдала. Никогда – даже если бы вы пришли ко мне с пятью тысячами долларов.
– Вы очень жестокая женщина!
Мадам Риго снова засмеялась.
– Пойдемте, вы мне поможете закрыть магазин.
Тихое, солнечное воскресенье висело над городом. Болдуин сидел в своем бюро без пиджака, читая юридический справочник в кожаном переплете. Изредка он делал на листке заметки твердым, размашистым почерком. В знойной тишине громко прозвонил телефон. Он дочитал параграф и снял трубку.
– Да, я один. Если хотите, зайдите. – Он повесил трубку. – Будь ты проклята! – пробормотал он сквозь зубы.
Нелли вошла не постучавшись. Он шагал взад и вперед перед окном.
– Хелло, Нелли! – сказал он не поднимая глаз.
Она стояла, глядя на него.
– Слушай, Джордж, так не может продолжаться.
– Почему нет?
– Мне тяжело все время притворяться и обманывать.
– Ведь никто же ни о чем не догадывается – так?
– О, конечно, нет.
Она подошла к нему и поправила ему галстук. Он нежно поцеловал ее в губы. На ней было красновато-лиловое платье с воланами и голубой зонтик в руке.
– Как дела, Джордж?
– Чудесно! Знаешь, ты принесла мне счастье. Я получил массу хороших дел и завязал очень ценные знакомства.
– Зато мне это принесло мало счастья. Я не решилась даже пойти на исповедь. Священник подумает, что я стала язычницей.
– Как поживает Гэс?
– Носится со своими планами. Можно подумать, что он заработал эти деньги, – так он ими гордится.
– Послушай, Нелли… а что, если ты бросишь Гэса и станешь жить со мной? Ты могла бы развестись с ним, и мы бы обвенчались. Тогда все было бы в порядке.
– Глупости! Ты об этом всерьез не думаешь.
– Все-таки стоит, Нелли, честное слово.
Он обнял ее и поцеловал в твердые, неподвижные губы. Она оттолкнула его.
– Я не затем пришла сюда. О, я была так счастлива, когда шла по лестнице… хотела увидеть тебя… А теперь вам заплачено, и дело с концом.
Он заметил, что завитки на ее лбу распустились. Прядь волос висела над бровью.
– Нелли, не надо расставаться врагами.
– А почему нет, скажите пожалуйста?
– Потому что мы когда-то любили друг друга.
– Я не собираюсь плакать. – Она утерла нос маленьким платком, свернутым в комочек. – Джордж, я начинаю ненавидеть вас… Прощайте!
Дверь резко захлопнулась.
Болдуин сидел за столом, покусывая кончик карандаша, ощущая летучий запах ее волос. У него першило в горле. Он закашлялся. Карандаш выпал у него изо рта. Он стер с него слюну носовым платком и сел в кресло. Он вырвал исписанный листок из блокнота, прикрепил его к стопке исписанных бумаг. Он начал на новом листе: «Решение Верховного суда штата Нью-Йорк…» Внезапно он выпрямился и опять закусил кончик карандаша. С улицы донесся долгий, мрачный свист поезда.
– Ах, это поезд, – сказал он вслух.
Он опять начал писать размашистым, ровным почерком: «Иск Паттерсона к штату Нью-Йорк… Решение Верховного…»
Бэд сидел у окна в Союзе моряков. Он читал газету медленно и внимательно. Около него два человека со свежевыбритыми, красными, как сырое мясо, лицами, скованные крахмальными воротничками и синими костюмами, шумно играли в шахматы. Один из них курил трубку. Когда он затягивался, она всхлипывала. За окном нескончаемый дождь сек широкий, мерцающий сквер.
«Банзай!» – кричали маленькие серые солдаты четвертого японского саперного батальона, наводя мост через р. Ялу…[94] (Спец. корреспондент «Нью-Йорк геральд».)
– Шах и мат, – сказал человек с трубкой.
– К черту! Пойдем выпьем. В такую ночь невозможно быть трезвым.
– Я обещал моей старухе…
– Знаю я твои обещания! – Огромная, багровая, густо поросшая желтым волосом лапа сгребла шахматы в ящик. – Скажешь старухе, что ты выпил, чтобы не простудиться.
– И я не совру.
Бэд видел, как их тени мелькнули под дождем мимо окна.
– Как вас зовут?
Бэд быстро отвернулся от окна, спугнутый пронзительным, квакающим голосом. Он глядел в яркие, синие глаза маленького желтого человечка: лицо жабы, широкий рот, выпученные глаза и жесткие, курчавые, черные волосы.
Бэд стиснул зубы.
– Мое имя Смис. А в чем дело?
Маленький человек неуклюже протянул ему квадратную, мозолистую ладонь.
– Очень приятно. А я Мэтти.
Бэд невольно протянул ему руку. Тот пожал ее так сильно, что Бэд поморщился.
– А дальше как?
– Просто Мэтти. Лапландец Мэтти… Пойдем, выпьем.
– Я пуст, – сказал Бэд. – Гроша медного нет.
– Ничего. У меня много денег, берите!
Мэтти сунул обе руки в карманы толстой полосатой куртки и показал Бэду две пригоршни ассигнаций.
– Спрячьте ваши деньги… А выпить я с вами выпью.
Пока они дошли до бара на углу Пэрл-стрит, локти и колени Бэда промокли насквозь. Холодная струйка дождя сбегала по его спине. Они подошли к стойке, и Лапландец Мэтти выложил пятидолларовую бумажку.
– Я угощаю всех! Я счастлив сегодня.
Бэд набросился на даровую закуску.
– Сто лет не жрал, – пояснил он, возвращаясь к стойке за выпивкой.
Виски жгло ему горло, сушило мокрое платье. Он чувствовал себя маленьким мальчиком, идущим играть в бейсбол в субботу вечером.
– Молодец, Лапландец! – крикнул он, похлопывая маленького человечка по широкой спине. – Теперь мы с тобой друзья.
– Завтра мы с тобой садимся на пароход и уезжаем вместе. Что ты на это скажешь?
– Конечно, поедем.
– А теперь идем на Баури-стрит,[95] поищем девочек. Я плачу.
– Ни одна девочка с Баури не пойдет с тобой, япошка! – заорал высокий пьяный человек с висячими черными усами; он встал между ними, когда они шатаясь проходили в дверь.
– Не пойдет, говоришь? – сказал Лапландец, откидываясь всем телом назад.
Его кулак, похожий на молот, внезапно вылетел вперед и въехал в нижнюю челюсть черноусого. Черноусый поднялся с земли и поплелся обратно в бар; дверь захлопнулась за ним. Изнутри донесся рев голосов.
– Ах, будь я проклят, Мэтти, будь я проклят! – заорал Бэд и опять хлопнул его по спине.
Они шли рука об руку по Пэрл-стрит под пронизывающим дождем. Бары ярко светились на углах истекающих дождем улиц. Желтый свет зеркал, медных решеток и золотых рам вокруг картин с розовыми голыми женщинами качался и прыгал в стаканах виски, вливался огнем в запрокинутый рот, вспыхивал в крови, пузырился из ушей и глаз, вытекал струйками из кончиков пальцев. Облитые дождем дома нависали с обеих сторон, уличные фонари колыхались, точно факелы. Бэд очутился в набитой лицами комнате. Женщина сидела у него на коленях. Лапландец Мэтти обнимал за шею двух других женщин, расстегнув рубашку, показывая грудь. На груди были вытатуированы зеленым и красным голые мужчина и женщина. Они обнимались, змея туго обвивала их своими кольцами. Мэтти выпятил грудь, ущемил пальцами кожу на груди – мужчина и женщина задвигались, и кругом захохотали.