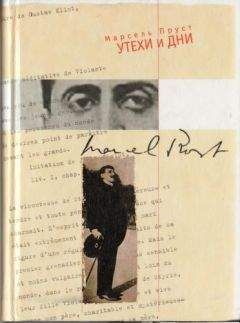Все эти расставания невольно давали мне представление о том, чем явилось бы для меня то непоправимое, что рано или поздно должно было случиться, хотя никогда в тот период я не представляла себе возможности пережить свою мать. Я решила покончить с собой немедленно после ее смерти. Позднее разлука научила меня еще более горьким истинам: я узнала, что к разлуке привыкаешь, а сознание того, что она уже не причиняет больше страданий, — самое глубокое, самое унизительное из всех страданий. Этим истинам впоследствии суждено было быть опровергнутым. Чаще всего я вспоминаю о том маленьком садике, где мы с матерью завтракали по утрам, где с нею вдвоем мы бесконечно много передумали. Эти мысли казались мне всегда грустными, важными, как символы, но нежными и бархатистыми; они были то цвета мальв, то фиалок, то почти черными, испещренными таинственным желтым узором; а некоторые из них казались мне совершенно белыми, недолговечными в своей непрочности. Теперь в памяти я собираю все эти мысли, словно цветы; их печаль возросла с тех пор, как они стали мне понятны, а их бархатистая нежность исчезла навсегда.
Как могла свежая струя воспоминаний еще раз забить ключом и проникнуть в мою порочную душу, не замутив своей чистоты? Какими чарами владеет утреннее благоухание сирени, если, просачиваясь сквозь смрадные испарения, оно не смешивается с ними и не ослабевает? Увы! А моя четырнадцатилетняя душа если еще и пробуждается, то так далеко от меня, как бы вне меня. Я знаю, что она уже не принадлежит мне и что не в моей власти ее вернуть. Тогда, однако, я не думала, что буду когда-нибудь сожалеть о ней. Она была только непорочной, а мне нужно было сделать её сильной и способной в будущем на более значительные поступки.
Часто после прогулки с матерью на берегу реки, где, играя, весело поблескивали лучи солнца и рыбы, или во время утренней и вечерней прогулки по полям я мечтала о своем будущем; но сколько я о нем ни думала — оно все же казалось мне недостойным ее любви и не соответствовало моему желанию нравиться ей и моим способностям. Мое воображение и смятенные чувства буйно призывали судьбу, достойную себя, и упорно стучались в мое сердце, словно желая открыть его и, покинув меня, ринуться в жизнь. И если тогда я прыгала изо всех сил, осыпала мою мать тысячью поцелуев, бросалась бежать впереди нее, как щенок, или, отставая, собирала маки и васильки и, испуская крики, приносила их ей, — я делала это не столько радуясь самой прогулке и этим букетам, сколько желая излить счастье, переполнявшее меня сознанием того, что жизнь моя вот-вот забьет ключом, прольется бесконечно широким потоком, заливая пространства более обширные и более пленительные, чем те леса, что простирались до самого горизонта, которого мне хотелось достигнуть одним прыжком. Венки из васильков, клевера и маков я сплетала в таком опьянении, с горящими глазами, вся трепеща. Вы заставляли меня смеяться и плакать оттого, что я вплетала в вас вместе с цветами мои тогдашние надежды; они засохли и сгнили, как и вы, и, не успев, как и вы, расцвести, вновь обратились в прах.
Моя мать приходила в отчаяние от моего слабоволия. Я делала все под влиянием минутного побуждения. Пока эти побуждения исходили от ума и сердца — моя жизнь, не будучи примерной, не была, однако, и недостойной. Мою мать и меня больше всего занимал вопрос о приведении в исполнение всех моих прекрасных намерений относительно работы, спокойствия, рассудительности, ибо мы обе чувствовали — она более ясно, я — смутно, но горячо, — что приведение в исполнение этих намерений зависит только от моей силы воли, которую моя мать тщетно старалась воспитать во мне. Но я откладывала работу над собой на завтра. Я не спешила; иногда меня огорчала мысль, что время идет; но сколько времени было еще впереди! Однако я испытывала некоторый страх; я смутно чувствовала, что привычка быть безвольной начинала с годами все больше и больше подавлять меня; мною овладела печаль, я поняла, что едва ли, не прилагая никаких усилий, можно надеяться на чудо, которое бы изменило мою жизнь и выковало мою волю. Недостаточно было о силе воли молчать. Нужно было именно то, на что я — безвольная — не была способна: этого добиваться.
И похоти неудержимый шквал
Рвет вашу плоть, как знамя старое.
Ш. Бодлер
Когда мне пошел шестнадцатый год, я пережила болезненный перелом. Для того чтобы развлечь меня, меня впервые начали вывозить в свет. Меня стали посещать молодые люди. Один из них был развратен и коварен. Он был и нежен и дерзок одновременно. В него-то я и влюбилась. Мои родные узнали об этом, но не вмешивались, не желая доставить мне слишком большого огорчения. Думая о нем все то время, когда его со мной не было, я кончила тем, что опустилась, делаясь, насколько это было доступно мне, похожей на него. Он склонял меня к скверным поступкам, почти исключительно из любопытства; потом приучил меня к скверным мыслям, возникновению которых я не могла воспрепятствовать силой воли — единственным могущественным средством, способным заставить их вернуться в ту адскую тьму, из которой они явились. Когда кончилась любовь, на ее место заступила привычка, и не было недостатка в безнравственных юношах, желавших ею воспользоваться. Сообщники моего греха, они делались его защитниками, стараясь оправдать грех перед моей совестью. Вначале я испытывала жесточайшие угрызения совести; я старалась в них покаяться, но мои родные не поняли, а приятели мои отговаривали меня от этих попыток. Они постепенно убеждали меня в том, что все девушки поступают так же и что родители только делают вид, что ничего не знают. В результате та беспрерывная ложь, к которой я все время должна была прибегать, неизбежно вылилась в форму молчания. В это время мне уже жилось плохо; но я еще мечтала, размышляла и была способна на какие-то чувства.
Для того чтобы рассеять и прогнать от себя все эти низкие страсти, я стала усиленно выезжать в свет. Иссушающие светские удовольствия приучили меня к постоянной жизни на людях, и вместе с любовью к одиночеству я утратила тайну радостей, которыми до сих пор дарили меня природа и искусство. Никогда я столь часто не посещала концертов, как в эти годы. Сидя в ложе, озабоченная желанием вызвать восхищение, я никогда еще не воспринимала музыку так поверхностно, как в ту пору. Я слушала, ничего не слыша, но если случайно музыка и долетала до моего слуха, мне все равно уже было недоступно, что таилось под ее покровом. Мои прогулки тоже были как бы поражены бесплодностью. То, что раньше делало меня счастливой на весь день: желтеющая в слабых лучах солнца трава, аромат, оброненный листьями вместе с последними каплями дождя, — все это потеряло для меня свое очарование. Леса, воды, небо, казалось, от меня отвернулись, и, когда, оставшись с ними с глазу на глаз, я пугливо вопрошала их, они не шептали мне больше в ответ тех неясных слов, которые восхищали меня когда-то.
И вот тогда, в поисках противоядия и не имея смелости спасти себя, — а спасение было так близко, и увы! так далеко от меня — во мне самой, — я вновь обратилась к греховным наслаждениям, думая разжечь этим пламя, притушенное светской жизнью. Но это было напрасно. Удовольствие нравиться окружающим мешало мне, со дня на день я откладывала окончательное решение — по своей собственной воле вернуться к одиночеству. Я не отказывалась ни от одного из этих двух пороков во имя другого. Я совмещала их. Что и говорить; каждый из них, стараясь опрокинуть все те препятствия ума и чувства, какие могли бы помешать другому, казалось, тем самым вызывал его: я выезжала в свет для того, чтобы найти успокоение после свершения греха, и я свершала новый грех, как только чувствовала успокоение. И в этот ужасный период, когда я потеряла невинность и еще не испытывала, как теперь, угрызений совести — в этот период, когда я была хуже, чем во все периоды моей жизни, — ко мне относились с особенным уважением. Раньше меня считали высокомерной и сумасбродной девочкой, теперь, наоборот, мое угасшее воображение пришлось по вкусу свету и услаждало его. В то время как я совершала по отношению к моей матери самый великий из грехов, меня считали примерной дочерью, судя по моему нежно-почтительному отношению к ней. После того как мысль моя сама убила себя, стали восхищаться моим умом, моими способностями. Моим угасшим воображением, моей иссякшей чувствительностью довольствовались люди, наиболее жаждущие духовной жизни, ибо их жажда была такой же притворной и лживой, как и тот источник, от которого они ждали утоления. К тому же никто не подозревал о моей преступной тайне, и в глазах всех я была идеальной молодой девушкой. Сколько родителей говорили тогда моей матери, что если бы не мое высокое происхождение и если бы они смели обо мне мечтать, — они не желали бы другой жены для своих сыновей! Однако в глубине моей притуплённой совести я испытывала бешеный стыд от этих незаслуженных похвал; но этот стыд оставался в глубине совести, не достигая ее поверхности, и я так низко пала, что у меня хватало гнусности рассказывать со смехом об этом сообщникам моего греха.