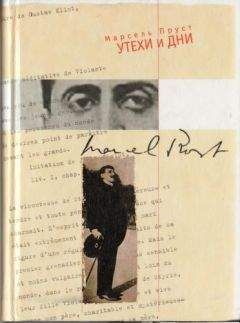Она безумствует при мысли, что может лишиться этого образа, что мучительное желание, так неразрывно связанное с ней, являющееся ее единственным прибежищем, — желание, которое так же дорого ей, как ее собственная жизнь — может исчезнуть, не оставив после себя ничего, кроме ощущения недомогания и боли, словно вызванных сновидением. Но вот, после минутного помутнения ее внутреннего зрения, образ де Лалеанда вновь возвращается к ней. Ее печаль может снова вступить в свои права, и для нее это — почти радость.
Как сможет г-жа де Брейв вернуться в Париж, раз он приедет туда лишь в январе? Что она будет делать до января? И что будут делать он и она после?
Раз двадцать я хотел отправиться в Биарриц и привезти оттуда де Лалеанда. Последствия этого поступка были бы, может быть, ужасны, но я не мог разбираться в этом: она запретила мне ехать. Но я мучаюсь, глядя, как эта необъяснимая любовь неустанно бьется в ее маленьких висках, как бы стараясь разбить их. Эта любовь дает ритм и минорный тон всей ее жизни. Часто она мечтает о том, что он приедет в Трувилль, подойдет к ней и скажет, что он ее любит. Она видит его: его глаза сверкают. Он говорит с ней тем матовым голосом сновидений, который одновременно и запрещает нам и заставляет нас слушать. Это он. Он говорит ей такие слова, от которых нас бросает в дрожь, даже если мы никогда не слышали их иначе, чем во сне, — слова, озаренные божественной улыбкой двух существ, чья судьба — соединиться. И тотчас же она просыпается от сознания, что два мира — мир реальности и мечты — параллельны друг другу и никогда не смогут слиться воедино, так же как не могут слиться тело и брошенная им тень. И тогда, вспомнив то мгновение в вестибюле, когда он коснулся своим локтем ее локтя, когда он предложил ей то тело, которое она могла бы, если бы захотела, сжимать теперь в своих объятиях, — тело, разлученное с нею, быть может, навсегда, она чувствует непреодолимое желание кричать от отчаяния и возмущения так, как кричат на погибающем судне.
И если во время прогулки по пляжу или по лесам она забывается на миг в нежном созерцании или в мечтах, под влиянием благоухания или заглушённой ветром песни, — она тотчас, как от сильного толчка в сердце, чувствует вновь свою мучительную рану, и над волнами, над листвой, в туманности горизонта леса или моря, вновь возникает перед нею образ ее невидимого и вездесущего победителя, сверкающего глазами сквозь тучи, как в тот день, когда он впервые предстал перед нею. Он убегает с колчаном в руке, пустив в нее еще одну стрелу.
Июль 1893
Плотские желания, вы влечете нас то в одну, то в другую сторону, но время проходит, и что вы несете за собой? Угрызения совести и душевную усталость. Часто выходишь с радостью в сердце, а возвращаешься с печалью, и вчерашние наслаждения омрачают утро. Так и радость плоти прельщает нас, но в конце концов ранит и убивает.
Подражание Христу.
Кн. I гл. XVIIIНаконец близится избавление. Конечно, я стреляла неловко, я едва не промахнулась. Разумеется, лучше было бы умереть от первого выстрела, но в конце концов пули все же не извлекли и сердечные припадки уже начались. Это не может тянуться очень долго. Однако прошла уже неделя. Это может тянуться еще неделю! И в течение всех этих дней я не буду способна ни на что, кроме попыток вновь сковать себя этими ужасными цепями. Если бы я не была так слаба, если бы у меня хватило силы воли для того, чтобы встать и уехать, я хотела бы отправиться умирать в Убли, — в тот парк, где я проводила каждое лето вплоть до той поры, когда мне минуло пятнадцать. Нет местности, где воспоминание о моей матери было бы столь живым — до такой степени все здесь проникнуто ее присутствием, вернее, ее отсутствием. Разве тот, кто любит, не ощущает, что отсутствие любимого человека есть самое достоверное, самое реальное, самое незыблемое, самое надежное его присутствие?
Моя мать привозила меня в Убли в конце апреля, затем уезжала через два дня обратно, проводила вместе со мной два дня в середине мая, снова уезжала и приезжала за мной в конце июня. Эти столь краткие посещения доставляли мне самое сладостное, самое жестокое наслаждение. В течение этих двух дней она осыпала меня ласками, на которые обычно была скупа, желая укрепить мой характер и успокоить мою болезненную чувствительность. Два вечера подряд, пока оставалась в Убли, она подходила к моей кровати пожелать мне спокойной ночи по старой привычке, которую она оставила потому, что этим доставляла мне слишком большое наслаждение и муку. Я не могла заснуть, подзывая ее к себе снова и снова; в конце концов я уже не решалась звать ее и испытывала из-за этого еще более страстную потребность в ее близости; я придумывала все новые и новые предлоги; просила ее перевернуть мою горячую подушку или согреть в своих руках мои замерзшие ноги так, как только одна она умела это делать. Я отвечала ей на ее нежность еще большей нежностью, ибо чувствовала, что в эти моменты она действительно была собой и что ее обычная холодность стоила ей, должно быть, немалого труда.
В день ее отъезда, в день отчаяния, когда, до последней минуты цепляясь за ее платье, я умоляла ее взять меня с собою в Париж, я великолепно отличала ее искренность от притворства; я чувствовала, что она разделяет мою печаль, несмотря на веселые и сердитые упреки «дурочка, чудачка», которыми она хотела заставить меня владеть собой. Я теперь еще испытываю волнение, вспоминая об одном из таких отъездов (прежнее глубокое волнение, не охлажденное теперешним мучительным поворотом моей судьбы), — об одном из таких отъездов, когда я впервые сделала сладостное открытие: обнаружила ее нежность, которая была так похожа на мою, но превосходила ее. Я предчувствовала это открытие, я предугадывала его, но поступки моей матери, казалось, так часто ему противоречили. Мои самые сладостные воспоминания относятся к тому времени, когда она вернулась в Убли, призванная туда моей болезнью. Это было не только лишним посещением, на которое я не рассчитывала: особенно важно было то, что она вся как бы исходила нежностью и любовью, не таясь и не принуждая себя ни к чему. Даже тогда, когда эта нежность и любовь еще не сделались для меня сладостней и трогательней от сознания, что наступит день, когда я буду лишена их, — они уже были для меня так значительны, что очарование выздоровления навевало на меня смертельную печаль: приближался день выздоровления, когда моя мать сможет уехать, а до наступления этого дня я буду уже недостаточно больна для того, чтобы она не вернулась снова к своей прежней суровости и справедливости, перестав быть ко мне снисходительной.
Однажды дядя, у которого я гостила в Убли, скрыл от меня предстоящий приезд моей матери, так как радостное томление ожидания помешало бы мне, по его мнению, быть достаточно внимательной к маленькому кузену, ненадолго приехавшему ко мне в гости. Этот поступок дяди, быть может, был одним из главнейших, не зависящих от моей воли обстоятельств, которые способствовали проявлению моей склонности к греховному и запретному, склонности, присущей мне в такой же мере как и всем детям моего возраста. Этот маленький пятнадцатилетний кузен — мне было четырнадцать — уже тогда был очень порочен и сообщил мне о существовании таких вещей, которые заставили меня тотчас же содрогнуться от наслаждения и угрызений совести. Слушая его речи, позволяя ему ласкать мои руки, я испытывала радость, отравленную уже в самом своем источнике; вскоре я нашла в себе силы покинуть его; я убежала в парк, испытывая безумную потребность в присутствии моей матери, которая — увы! как мне было известно — находилась в Париже. Помимо своей воли, я громко призывала ее, разыскивая по всем аллеям, и вдруг, проходя мимо питомника, я увидела ее сидящей на скамье; она улыбалась и открывала мне свои объятия. Она приподняла вуаль, чтобы поцеловать меня; я бросилась к ней, прижалась к ее щеке, заливаясь слезами; я долго плакала, рассказывая ей с наивной откровенностью, которая возможна только в моем возрасте, обо всех скверных вещах, какие я только что узнала. Она сумела выслушать их с божественным спокойствием, как бы не понимая их смысла, стараясь уменьшить его значительность с такой добротой, которая снимала бремя с моей совести. Это бремя делалось все легче и легче; моя подавленная, униженная душа всплывала на поверхность, била через край, переполняла меня. Доброта моей матери и возвратившаяся ко мне невинность излучали нежность. Вскоре я почувствовала столь же чистый и нежный аромат. Это благоухала цветущая, невидимая ветка сирени, скрывавшаяся за зонтиком моей матери. На верхних ветвях деревьев распевали птицы. Повыше, меж зеленых верхушек, сквозило небо такой глубокой синевы, что казалось, будто оно — только преддверие другого неба, бесконечно высокого. Я поцеловала мать. Никогда уже мне не пришлось вновь испытать сладости этого поцелуя. Она снова уехала на следующий день, и этот отъезд был ужасней, чем все остальные.