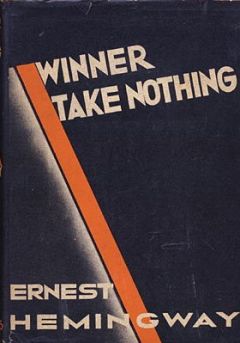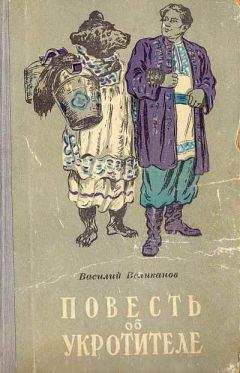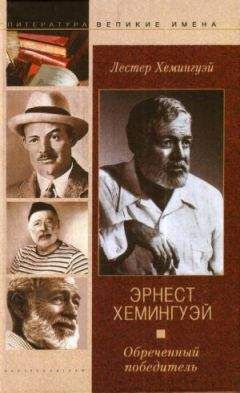— Я не знаю о ней ничего, что мог бы написать. Уже почти все написано, — сказал мистер Фрэзер. — Вам не понравится, как я пишу. Ей тоже не понравится.
— Вы когда-нибудь о ней напишете, — сказала сестра. — Я знаю, что напишете. Вы должны написать о пресвятой деве.
— Лучше приходите и послушайте состязание.
— Я не выдержу этого. Нет, лучше я пойду в часовню и помолюсь.
В этот вечер, не прошло и пяти минут с начала игры, как стажер вошел в комнату и сказал:
— Сестра Цецилия просит узнать, как идет игра.
— Скажите ей, что один гол уже забит.
Немного погодя стажер снова вошел в комнату.
— Скажите ей, что наши сшибают их с ног, — сказал мистер Фрэзер.
Немного позднее он позвонил дежурной сиделке:
— Не будете ли вы добры спуститься в часовню или передать с кем-нибудь сестре Цецилии, что «Notre Dame» выиграла четырнадцать — ноль к концу первого хавтайма и что все в порядке. Она может больше не молиться.
Через несколько минут сестра Цецилия вошла в комнату. Она была сильно взволнована.
— Что значит четырнадцать— ноль? Я ничего не понимаю в футболе. Для бейсбола это было бы очень хорошо, но в футболе я ничего не смыслю. Может быть, это ничего не решает. Я сейчас же иду обратно в часовню и буду молиться до самого конца игры.
— Исход ясен, — сказал Фрэзер. — Я ручаюсь вам. Останьтесь и послушайте со мной.
— Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет, — сказала она. — Я сейчас же иду обратно в часовню молиться.
Мистер Фрэзер посылал ей сказать каждый раз, как «Norte Dame» забивала гол, и наконец, когда уже давно стемнело, сообщил окончательный результат.
— Ну, что сестра Цецилия?
— Она всё в часовне, — сказала сиделка.
На следующее утро вошла сестра Цецилия. Она была очень довольна и весела.
— Я знала, что они не смогут обыграть «Пресвятую деву», — сказала она. — Не смогут. Каэтано тоже лучше. Много лучше. К нему сегодня придут. Он еще не может их видеть, но они придут, и ему станет легче, и он будет знать, что он не забыт своими. Я пошла в полицию к О'Брайену и сказала ему, что он должен прислать каких-нибудь мексиканцев навестить бедного Каэтано. Он пришлет кого-нибудь сегодня днем. Тогда бедняге станет лучше. Это дурно, что никто не пришел навестить его.
В тот же день около пяти часов в палату вошли три мексиканца.
— Можно? — спросил самый высокий, с мясистыми губами и очень толстый.
— Конечно, можно, — ответил мистер Фрэзер. — Садитесь, господа. Может, выпьем чего-нибудь?
— Большое спасибо, — сказал толстый.
— Спасибо, — сказал самый черный и маленький.
— Нет, спасибо, — сказал тощий. — Вино мне в голову ударяет. — Он постучал себя по голове.
Сиделка принесла стаканы.
— Подайте им, пожалуйста, бутылку, — сказал Фрэзер. — Это из Рэд-Лодж, — пояснил он.
— Из Рэд-Лодж— это самое лучшее, — сказал толстый. — Много лучше, чем из Биг-Тимбер.
— Ясно, — сказал самый маленький. — И дороже.
— В Рэд-Лодж есть на все цены, — сказал толстый.
— Сколько ламп в приемнике? — спросил тот, который не пил.
— Семь.
— Здорово! — сказал он. — Сколько он стоит?
— Не знаю, — сказал мистер Фрэзер. — Его взяли напрокат. Вы, господа, друзья Каэтано?
— Нет, — сказал толстый. — Мы друзья того, кто ранил его.
— Нас прислала сюда полиция, — сказал самый маленький.
— Мы с ним держим небольшой кабачок, — сказал толстый. — Вот с ним, — кивнул он в сторону того, который не пил. — У того тоже небольшой кабачок, — кивнул он на маленького черного. — Нам в полиции сказали прийти, мы и пришли.
— Я очень рад, что вы пришли.
— Мы тоже.
— Хотите еще по рюмочке?
— Пожалуй, — сказал толстый.
— С вашего разрешения, — сказал самый маленький.
— Мне не надо, — сказал тощий. — Вино мне в голову ударяет.
— Вино замечательное! — сказал самый маленький.
— Почему не попробовать? — спросил мистер Фрэзер тощего. — Ну, покружится голова, и всё.
— А потом болеть будет.
— Вы не могли бы прислать к Каэтано его друзей? — спросил Фрэзер.
— У него нет друзей.
— У каждого человека есть друзья.
— У него нет.
— Что он делает?
— Он игрок.
— Хороший?
— Еще бы!
— У меня, — сказал самый маленький, — он выиграл сто восемьдесят долларов. Теперь во всем мире не найдешь ста восьмидесяти долларов.
— У меня, — сказал тощий, — он выиграл двести одиннадцать долларов. Вы только представьте себе такую сумму!
— Я никогда не играл с ним, — сказал толстый.
— Он, должно быть, очень богат, — предположил мистер Фрэзер.
— Он беднее нас, — сказал маленький мексиканец. — У него только и есть что рубашка на плечах.
— Да и та теперь ничего не стоит, — сказал мистер Фрэзер, — прострелена пулями.
— Ясно.
— Тот, что ранил его, тоже игрок?
— Нет, рабочий-свекольщик. Ему пришлось уехать из города.
— Только представьте себе, — сказал самый маленький. — Он был лучшим гитаристом во всем городе. Самым лучшим.
— Какая жалость!
— Еще бы! — сказал самый крупный. — А как он играл!
— И больше не осталось хороших гитаристов?
— Ни одного.
— Есть один, он на аккордеоне играет, ничего себе, — сказал тощий.
— Да еще кое-кто играет на других инструментах, — сказал толстый. — Вы любите музыку?
— Как же!
— А что, если мы придем как-нибудь вечером поиграть вам? Как вы думаете, сестра разрешит? Она, кажется, очень симпатичная?
— Уверен, что разрешит, когда Каэтано сможет слушать музыку.
— Она что, сумасшедшая? — спросил тощий.
— Кто?
— Эта сестра.
— Нет, — сказал мистер Фрэзер. — Она милая женщина, очень умная и симпатичная.
— Я не верю ни попам, ни монахам, ни монахиням, — сказал тощий.
— Он на них насмотрелся в детстве, — сказал самый маленький.
— Я был служкой в церкви, — сказал тощий с гордостью. — Теперь я ни во что не верю. И в церковь не хожу.
— Почему? В голову ударяет?
— Нет, — сказал тощий. — Это спирт в голову ударяет. Религия— опиум для бедняков.
— А я думал опий— опиум для бедняков, — сказал Фрэзер.
— Вы когда-нибудь курили опиум? — спросил толстый.
— Нет.
— Я тоже, — сказал он. — Кажется, это скверная штука. Начнешь — и уже не можешь бросить. Это порок.
— Как и религия, — сказал тощий.
— Он, — сказал маленький мексиканец, — большой противник религии.
— Необходимо быть противником чего-нибудь, — вежливо сказал мистер Фрэзер.
— Я уважаю верующих, даже если они невежественны, — сказал тощий.
— Это хорошо, — сказал мистер Фрэзер.
— Что вам принести? — спросил крупный мексиканец. — Вам что-нибудь нужно?
— Я с удовольствием купил бы пива, хорошего пива.
— Мы принесем вам пиво.
— Еще одну copita[17] перед уходом?
— Вино замечательное.
— Мы у вас все выпили.
— Я не могу его пить. У меня голова кружится. Потом начинается головная боль и тошнота, — сказал тощий.
— До свиданья, господа!
— До свиданья, спасибо!
Они ушли. Был ужин, а потом радио, поставленное как можно тише, но так, чтобы было слышно, и станции выключались в таком порядке: Дэнвер, Солт-Лейк-Сити, Лос-Анжелос и Сиэттл. У мистера Фрэзера не создалось никакого представления о Дэнвере по радио. Он мог видеть Дэнвер только в «Дэнвер Пост» и пополнять картину по «Роки Маунтен-Ньюз». Он никогда не мог почувствовать и Солт-Лейк-Сити и Лос-Анжелос по передачам. О Солт-Лейк-Сити он знал только то, что там было чисто, но скучно, а Лос-Анжелос ему не хотелось и видеть, потому что оттуда рекламировали слишком много дансингов и слишком много крупных отелей. Дансинги он не любил. Но Сиэттл он изучил очень хорошо, его компанию таксомоторов с ее большими белыми машинами (каждая машина радиофицирована), на одной из них он каждую ночь выезжал в ресторан на Канадской стороне, где следил за ходом вечеринок по тем музыкальным номерам, которые они заказывали по телефону. Он проводил в Сиэттле каждую ночь с двух часов, слушая номера, которые требовали разные люди, и это было так же реально, как Миннеаполис, где музыканты каждое утро покидали свои постели, чтобы совершить поездку в студию. Мистер Фрэзер очень полюбил Сиэттл в штате Вашингтон.
Мексиканцы пришли и принесли пиво, но пиво было плохое. Мистер Фрэзер принял их, но ему не хотелось разговаривать, и когда они ушли, он знал, что больше они не придут. У него пошаливали нервы, и когда он был в таком состоянии, ему не хотелось видеть людей. К концу пятой недели нервы расходились, и хотя он радовался, что они продержались так долго, он все же не хотел подвергать себя экспериментам, когда уже заранее знал их результат. Мистер Фрэзер испытывал это и раньше. Единственно, что было для него ново, это радио. Он слушал его всю ночь, приглушив его так, что было едва слышно, и приучал себя слушать, ни о чем не думая.