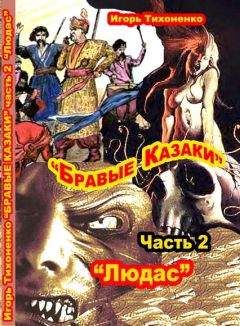Войдя в квартиру Глауджюсов, он застал в гостиной того же врача, которого видел здесь после смерти Витукаса.
— Отчего это случилось? — коротко спросил он.
— Сердце, — нехотя ответил врач. — За последний год перенесла много моральных потрясений и прихварывала… Ненормальный образ жизни. Ей нужен был отдых, спокойная обстановка, а тут, сами видите, какая была ночь… Не выдержало…
Они вошли в комнату Люции, и Васарис увидел ее: она лежала на кушетке вытянувшись, уже прибранная, со сложенными на груди руками. На ней было то же вчерашнее платье, светлые чулки, туфли с блестящими пряжками, в ушах серьги, перстни на пальцах. Пугающе необычным было выражение ее белого как бумага лица. Рот был полуоткрыт, лицо осунулось, губы скривились, веки сомкнуты неплотно. Благодаря ли освещению и особенным образом падавшей тени, а может быть, и на самом деле черты этого лица выражали жуткую гримасу, многозначительную, загадочную усмешку.
Васарис стоял, не сводя глаз с этого, недавно еще красивого, а теперь жестоко искаженного смертью лица, и временами испытывал такой ужас, что у него почти темнело в глазах и волосы шевелились на голове. Сделав усилие воли, он подошел к телу Люции и, словно прощаясь навек, коснулся ее бледной руки. Ощутил ладонью странный холод и поскорее отошел.
В гостиной он снова заговорил с врачом:
— Доктор, а она действительно умерла своею смертью?
Врач пожал плечами.
— Разумеется. Как же иначе? Сердце… Она давно на него жаловалась… Ненормальный образ жизни…
Но Васариса одолевали мучительные сомнения. Ему казалось, что такое выражение лица может быть лишь у самоубийцы, который проходит в последние минуты через весь ад моральных и физических мучений, через презрение к жизни и жестокое надругательство над ней, а может быть, и над самим собой.
Он вышел в столовую, позвал Аделе и начал расспрашивать ее, кто и как обнаружил, что Люция умерла. Оказалось, первая узнала о несчастье она сама. После ухода гостей Люция еще походила по комнатам, потом ушла в спальню, взяв с собой стакан вина, а прислуге велела идти спать. Аделе и Текле сразу легли и уснули. Аделе встала часов в десять, оделась и пошла убирать в гостиной.
Войдя в столовую, заметила, что из-под двери спальни пробивается свет. Она осторожно приотворила дверь, хотела погасить электричество. И вдруг увидела, что Люция лежит не на кровати, а на кушетке. Аделе сразу почуяла беду, потому что Люция лежала, скорчившись, и одна рука у нее спустилась почти до полу. Убедившись, что хозяйка умерла, Аделе стала кричать и привела в спальню Текле. Они прибрали немного хозяйку и вымели осколки стекла, потому что стакан был брошен на пол и разбился. Аделе сейчас же стала звонить доктору, но телефон был выключен, и станция не отвечала. Тогда она побежала к доктору и привела его. Доктор осмотрел хозяйку и сказал, что она умерла от разрыва сердца. Еще он велел хорошенько вытереть пол в том месте, где были осколки стакана. Потом Аделе дала телеграмму хозяину и побежала к Васарису.
Теперь Васарис почти не сомневался, что Люция отравилась. Врач, как добрый друг дома, выдумал версию о сердечном приступе, чтобы оградись покойную и ее мужа от лишних сплетен.
Тем временем пришло несколько родственников Глауджюса, и они занялись дальнейшими приготовлениями. Васарис почувствовал, что он здесь лишний, и ушел.
Он сознавал за собой один только долг — надо было сообщить ужасную весть канонику Кимше. Васарис пошел на почту, составил телеграмму и вернулся домой. Что бы он стал делать в чужой теперь квартире Глауджюса? Дома он постарался во всех подробностях припомнить все слова и поступки Люции, начиная с того момента, когда он накануне вошел в гостиную и увидел ее нарядную, ожидающую гостей.
Сейчас, в свете смерти, а вернее, самоубийства Люции, ее вчерашнее поведение, вплоть до последней мелочи, приобретало ясный и жестокий смысл. Васарис поражался самому себе, каялся и обвинял себя: как это он не мог догадаться о надвигающейся катастрофе? Эти необычные гости Люции, эта смена настроения, этот тост за безумие и, наконец, многозначительный разговор во время зловещего танца — все это были приготовления и недвусмысленные намеки на принятое его страшное решение умереть.
После обеда Васарис пошел к Гражулисам. Ауксе испуганно выслушала его рассказ. Она тоже готова была допустить, что Люция умерла не от болезни сердца, а отравилась. Людас умолчал о том, что Люция угрожала ему любовью из-за гроба, и о том, что она привиделась ему утром, может быть, в минуту своей смерти. Но Ауксе, вспомнив прежние опасения Васариса, представила себе, как потрясла поэта ужасная смерть глубоко любящей его женщины.
Кончив рассказ о событиях прошедшей ночи и утра, Васарис угрюмо замолчал, ушел в себя. На вопросы он отвечал нехотя и в разговор не вступал. Внимательно следившая за ним Ауксе ни разу не почувствовала на себе его ласкового взгляда, который обычно помогал сглаживать все недоразумения и восполнял то, что он недосказывал и замалчивал. Сейчас от него веяло холодом, чем-то чуждым, чего нельзя было объяснить ни усталостью, ни несчастьем, ни душевной болью. И когда Васарис простился и ушел, темная тревога впервые зашевелилась в сердце Ауксе.
А Васарис, вернувшись в свою комнату, шагал из угла в угол, садился и опять принимался ходить, словно бы глубоко задумавшись, но в голове у него не было ни одной отчетливой мысли. Все его существо заполонило единственное чувство: Люце, любящей его, являвшейся ему в жизни в стольких обличьях, уже нет. Как величайшее логическое противоречие в голове его не могла уложиться мысль, что эта прелестная женщина, чей поцелуй он сейчас ощущал на губах, лежит остывшая, с ужасной гримасой на лице, которую наложила на него смерть.
В шесть часов пришел почтальон и вручил ему письмо. Васарис взглянул на конверт и обмер: он узнал почерк Люции. Дрожащими пальцами он развернул листок бумаги и посмотрел на подпись. Да, от Люции. Васарис сел за стол и начал жадно читать.
«Воображаю твое удивление, дорогой Людас, когда ты возьмешь в руки это письмо. Все уже свершится к тому моменту, ты будешь взволнован и, может быть, возмущен таким безумным поступком, а я… Где буду тогда я? Нет, не стану разжалобливать тебя сентиментальными словами. Мысли мои ясны и трезвы, и я хочу, чтобы последнее мое письмо лучше свидетельствовало обо мне, чем многие мои поступки, особенно последнего времени. Недавно поговорила с тобой по телефону и знаю, что ты сегодня придешь. Только сейчас почувствовала желание написать письмо, которое ты получишь после моей смерти. Письмо я брошу в ящик вечером, покончу с собой после ухода гостей и прощания с тобой, самое позднее в восемь часов утра, а письмо ты получишь в этот же день, но, конечно, позже.
Зачем я тебе пишу? Ты поэт и можешь подумать, что ради эффекта, из желания произвести впечатление. Подумать только — письмо самоубийцы! Союз между обоими мирами, рука, протянутая из гроба… Но нет, все это меня теперь не трогает, и я совсем не хочу удивлять вас, живых. Пишу я тебе, как давнему другу, как человеку, которого давно любила, люблю и теперь. Я хочу еще раз поблагодарить тебя за то, что ты понимал меня, не насмехался надо мной, как многие из моих поклонников, и не лгал мне, не говорил, что любишь меня.
И вот еще для чего. Раздумывая о своей смерти, я начала опасаться, что факт моего самовольного ухода из жизни будет утаен. Я предвижу, что наш домашний врач, которого, конечно, тут же позовут, захочет оберечь мое имя от сплетен, а Глауджюса — от неприятностей и придумает какую-нибудь невинную причину моей скоропостижимой смерти. Это меня мало беспокоит, но мне почему-то непременно хочется, чтобы ты знал, отчего я умерла, чтобы у тебя не было никаких сомнений на этот счет. Я хочу, чтобы для тебя моя смерть не была окружена ни ложью, ни лицемерными объяснениями. В восемь или семь часов утра я возьму стакан красного вина, уйду в свою комнату, всыплю яд, лягу и выпью его. Яд у меня надежный, действует почти мгновенно. Стреляться я не хочу: шум, кровь, и потом никогда не можешь быть уверенным, что не промахнешься.
Сегодня вечером ты, конечно, будешь с удивлением смотреть на моих гостей, и на угощение, и на меня. Я не стану тебе ничего объяснять. Думай, что хочешь. И разве я знаю сама? Может быть, я захочу расстаться с жизнью в тот момент, когда лишний раз уверюсь в ее пустоте, может быть, соблазнюсь эффектной театральной сценой? Подумайте только: женщина носит еще траур по умершему ребенку, всю ночь кутит в пьяной компании, а когда гости расходятся, принимает яд!.. Почему не доставить себе раз в жизни такое удовольствие? Многие считают меня богатой, гордой барыней, но мало кто, да может быть, и никто не знает, что в глубине души я чувствую себя оскорбленной, униженной, загнанной, точно бездомная кошка… Так почему же мне не сделать в последнюю минуту такой королевский жест?