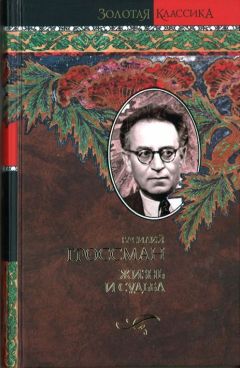За обедом Марья Ивановна сказала Жене:
— Евгения Николаевна, если разрешите, я могу пойти вместе с вами. У меня есть печальный опыт в этих делах. Да и вдвоем как-то легче.
Женя, смутившись, ответила:
— Нет-нет, спасибо большое, уж эти дела надо делать в одиночку. Тут тяжесть ни с кем не разделишь.
Людмила Николаевна искоса посмотрела на сестру и, как бы объясняя ей свою откровенность с Марьей Ивановной, сказала:
— Вот вбила себе Машенька в голову, что она тебе не понравилась.
Евгения Николаевна ничего не ответила.
— Да-да, — сказала Марья Ивановна. — Я чувствую. Но вы меня простите, что я это говорила. Ведь — глупости. Какое вам дело до меня. Напрасно Людмила Николаевна сказала. А теперь получилось, точно я напрашиваюсь, чтобы вы изменили свое впечатление. А я так просто. Да и вообще…
Евгения Николаевна неожиданно для себя совершенно искренне сказала:
— Да что вы, милая вы, да что вы. Я ведь в таком расстройстве чувств, вы меня простите. Вы хорошая.
Потом, быстро поднявшись, она сказала:
— Ну, дети мои, как мама говорит: «Мне пора!»
На улице было много прохожих.
— Вы спешите? — спросил он. — Может быть, снова пойдем в Нескучный?
— Что вы, уже люди возвращаются со службы, а мне нужно поспеть к приходу Петра Лаврентьевича.
Он подумал, что она пригласит его зайти, чтобы услышать рассказ Соколова о заседании ученого совета. Но она молчала, и он почувствовал подозрение, не опасается ли Соколов встречаться с ним.
Его обижало, что она спешила домой, но ведь это было совершенно естественно.
Они проходили мимо сквера, неподалеку от улицы, ведущей к Донскому монастырю.
Она внезапно остановилась и сказала:
— Давайте посидим минуту, а потом я сяду в троллейбус.
Они сидели молча, но он чувствовал ее волнение. Немного склонив голову, она смотрела в глаза Штруму.
Они продолжали молчать. Губы ее были сжаты, но, казалось, он слышал ее голос. Все было ясно, настолько ясно, словно бы они уже все сказали друг другу. Да и что тут могли сделать слова.
Он понимал, что происходит что-то необычайно серьезное, что новая печать ляжет на его жизнь, его ждет тяжелая смута. Он не хотел приносить людям страданий, лучше бы никто никогда не узнал об их любви, может быть, и они друг другу не скажут о ней. А может быть… Но происходившее сейчас, свою печаль и радость, они не могли скрыть друг от друга, и это влекло за собой неизбежные, переворачивающие изменения. Все происходящее зависело от них, и в то же время казалось, — происходившее подобно року, они уже не могли ему не подчиниться. Все, что возникало между ними, было правдой, естественной, не зависящей от них, как не зависит от человека дневной свет, и в то же время эта правда рождала неизбежную ложь, фальшь, жестокость по отношению к самым близким людям. Только от них зависело избежать этой лжи и жестокости, стоило отказаться от естественного и ясного света.
Одно ему было очевидно, — в эти минуты он навсегда терял душевный покой. Что уж там ни ждало его впереди, покоя в душе его не будет. Скроет ли он чувство к женщине, сидящей рядом с ним, вырвется ли оно наружу и станет его новой судьбой, — он уже не будет знать покоя. В постоянной ли тоске по ней или в близости, соединенной с мучениями совести, — покоя ему не будет.
А она все смотрела на него с каким-то невыносимым выражением счастья и отчаяния.
Вот он не склонился, устоял в столкновении с огромной и безжалостной силой, и как он слаб, беспомощен здесь, на этой скамейке.
— Виктор Павлович, — сказала она, — мне пора уже. Петр Лаврентьевич ждет меня.
Она взяла его за руку и сказала:
— Мы с вами больше не увидимся. Я дала слово Петру Лаврентьевичу не встречаться с вами.
Он почувствовал смятение, которое испытывают люди, умирая от сердечной болезни, — сердце, чьи биения не зависели от воли человека, останавливалось, и мироздание начинало шататься, опрокидывалось, земля и воздух исчезали.
— Почему, Марья Ивановна? — спросил он.
— Петр Лаврентьевич взял с меня слово, что я перестану встречаться с вами. Я дала ему слово. Это, наверное, ужасно, но он в таком состоянии, он болен, я боюсь за его жизнь.
— Маша, — сказал он.
В ее голосе, в ее лице была непоколебимая сила, словно бы та, с которой он столкнулся в последнее время.
— Маша, — снова сказал он.
— Боже мой, вы ведь понимаете, вы видите, я не скрываю, зачем обо всем говорить. Я не могу, не могу. Петр Лаврентьевич столько перенес. Вы ведь все сами знаете. Вспомните, какие страдания выпали Людмиле Николаевне. Это ведь невозможно.
— Да-да, у нас нет права, — повторил он.
— Милый мой, хороший, бедный мой, свет мой, — сказала она.
Шляпа его упала на землю, вероятно, люди смотрели на них.
— Да-да, у нас нет права, — повторял он.
Он целовал ей руки, и когда он держал в руке ее холодные маленькие пальцы, ему казалось, что непоколебимая сила ее решения не видеться с ним соединена со слабостью, покорностью, беспомощностью…
Она поднялась со скамьи, пошла, не оглядываясь, а он сидел и думал, что вот он впервые смотрел в глаза своему счастью, свету своей жизни, и все это ушло от него. Ему казалось, что эта женщина, чьи пальцы он только что целовал, могла бы заменить ему все, чего он хотел в жизни, о чем мечтал, — и науку, и славу, и радость всенародного признания.
На следующий день после заседания ученого совета Штруму позвонил по телефону Савостьянов, спросил его, как он себя чувствует, здорова ли Людмила Николаевна.
Штрум спросил о заседании, и Савостьянов ответил:
— Виктор Павлович, не хочется вас расстраивать, оказывается, ничтожеств больше, чем я думал.
«Неужели Соколов выступил?» — подумал Штрум и спросил:
— А резолюцию вынесли?
— Жестокую. Считать несовместимым, просить дирекцию рассмотреть вопрос о дальнейшем…
— Понятно, — сказал Штрум и, хотя был уверен, что именно такая резолюция будет вынесена, растерялся от неожиданности.
«Я не виноват ни в чем, — подумал он, — но, конечно, посадят. Там знали, что Крымов не виноват, а посадили».
— Кто-нибудь голосовал против? — спросил Штрум, и телефонная проволока донесла до него молчаливое смущение Савостьянова.
— Нет, Виктор Павлович, вроде единогласно, — сказал Савостьянов. — Вы очень повредили себе тем, что не пришли.
Голос Савостьянова был плохо слышен, он, видимо, звонил из автомата.
В тот же день позвонила по телефону Анна Степановна, она уже была отчислена с работы, в институт не ходила и не знала о заседании ученого совета. Она сказала, что едет на два месяца к сестре в Муром, и растрогала Штрума сердечностью, — приглашала его приехать.
— Спасибо, спасибо, — сказал Штрум, — если уж ехать в Муром, то не прохлаждаться, а преподавать физику в педтехникуме.
— Господи, Виктор Павлович, — сказала Анна Степановна. — Зачем вы все это, я в отчаянии, все из-за меня. Стою ли я этого.
Его слова о педтехникуме она, вероятно, восприняла как упрек себе. Голос ее тоже был плохо слышен, и она, видимо, звонила не из дому, а из автомата.
«Неужели Соколов выступил?» — спрашивал Штрум самого себя.
Поздно вечером позвонил Чепыжин. В этот день Штрум, подобно тяжелобольному, оживлялся, лишь когда заговаривали о его болезни. Видимо, Чепыжин почувствовал это.
— Неужели Соколов выступил, неужели выступил? — спрашивал Штрум у Людмилы Николаевны, но она, естественно, как и он, не знала, выступал ли на заседании Соколов.
Какая-то паутина возникла между ним и близкими ему людьми.
Савостьянов, очевидно, боялся говорить о том, что интересовало Виктора Павловича, не хотел быть его информатором. Он, вероятно, думал: «Встретит Штрум институтских и скажет: „Я уже все знаю, мне Савостьянов во всех подробностях доложил обо всем“».
Анна Степановна была очень сердечна, но в подобной ситуации ей следовало прийти к Штруму на дом, а не ограничиваться телефоном.
А Чепыжин, думалось Виктору Павловичу, должен был предложить ему сотрудничество в Институте астрофизики, хотя бы поговорить на эту тему.
«Они обижаются на меня, я обижаюсь на них, — лучше бы уж не звонили», — думал он.
Но он еще больше обижался на тех, кто вовсе не позвонил ему по телефону.
Весь день ждал он звонка Гуревича, Маркова, Пименова.
Потом он рассердился на механиков и электриков, работавших по монтажу установки.
«Сукины дети, — думал он. — Уж им-то, рабочим, бояться нечего».
Невыносимо было думать о Соколове. Петр Лаврентьевич велел Марье Ивановне не звонить Штруму! Простить можно всем, — и старым знакомым, и родичам даже, и сослуживцам. Но другу! Мысль о Соколове вызывала в нем такую злобу, такую мучительную обиду, что становилось трудно дышать. И в то же время, думая об измене своего друга, Штрум, сам того не замечая, искал оправдания своей собственной измены другу.