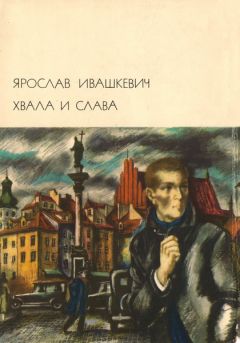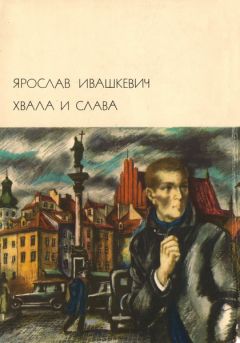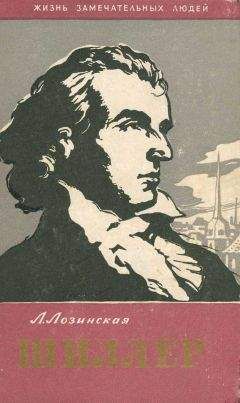— Я вынужден признать, что мне довольно чуждо все, что сочиняет Эдгар, — спокойно и размеренно сказал Шиллер. — Экзотика. И как-то странно все это звучит. Конечно, я знаю, что родителям порой трудно понять детей. Но…
Казя возмутилась.
— Да что ты говоришь, Людвик! Я своих детей великолепно понимаю, а вы же знаете, что каждый из моих сыновей выбрал свою стезю в искусстве.
Паулина улыбнулась.
— А это у тебя, часом, не самообман, Казя?
— Какой еще самообман?
— Ну, будто ты понимаешь своих детей. В конце концов, дети — это дети, и хочется, чтобы они навсегда оставались детьми. А они растут, взрослеют, даже стареют…
— Даже стареют, — повторил Шиллер.
— И все это происходит как-то помимо нас. В какой-то определенный момент жизни мы становимся «стариками родителями» и уже не имеем никакого влияния на детей — даже начинаем им мешать…
— Мешать? Что ты говоришь, Паулина! — абсолютно искренне и без всякой тревоги возразила Казя. — Мы всегда им нужны.
— Ну да? — отозвался Шиллер. — Никогда еще я не чувствовал так, как сегодня, что я не нужен моим детям. К счастью, у меня своя жизнь, свой сахарный завод, своя работа… А не будь этого? Ни Эдгар не нуждается во мне, когда сочиняет свою «Шехерезаду», ни Эльжбета, когда ее исполняет.
— Еще чаю? — спросила Казя.
— А знаешь, Казя, с удовольствием, — сказала Паулина. — Может быть, я сама принесу?
— Ну зачем же! Вы гости. Я так вам рада, — и хозяйка, забрав обе чашки, вышла на кухню.
— Лучше не говори таких вещей посторонним, — начала Паулина, закуривая новую папиросу. — Вот и Оле ты в филармонии наговорил бог весть что.
— Ты права, Паулина, — спокойно согласился Шиллер, — но мне так больно.
— Ох, в конце концов… — Паулина не договорила.
Шиллер вновь взялся за те же ноты. Глаза его казались особенно большими и сверкающими из-за выпуклых стекол очков. Перебрасывая страницы альбома, он вновь что-то замурлыкал себе под нос.
— Что ты там смотришь? — спросила без особого любопытства жена.
— Квартеты Бетховена в четыре руки.
— В четыре руки? Те же, что были у нас?
— Кажется. То же самое издание.
— Покажи.
Шиллер подал ей тетрадь.
— Ага, — подтвердила Паулина. — Помнишь, как мы их играли?
— Конечно, — слегка изменившимся голосом сказал Шиллер.
— О, видишь, квартет фа мажор и этот… до мажор. Помнишь это анданте?
Шиллер в ответ чуть громче напел первую фразу анданте.
Паулина раскрыла рояль, подняла пюпитр и, поставив на него ноты, одним пальцем проиграла фразу, которую только что напевал муж.
— Ох, как много мне это напоминает, — сказала она, отходя от инструмента.
— Да? — отозвался еще более мягким голосом Шиллер.
— Я была тогда в положении. Ждала Эдгара.
— Вот-вот. Может быть, это мы и одарили его музыкальностью.
— Вряд ли. Это анданте — просто скорбное смирение…
— Как раз для сегодняшнего вечера, — вновь с сухой иронией произнес старый Шиллер.
— Слушай, Людвик, давай сыграем, — предложила Паулина.
— Давай, если хочешь, — согласился муж.
Они сели за рояль — Паулина в басах, а он в верхнем регистре, как играли когда-то, — и начали Andante con moto quasi allegretto.
Зазвучала эта фраза, просторная, нисходящая и настойчиво повторяющаяся несколько раз. Потом побочная партия, основанная на уменьшенном аккорде. В этой простой, настойчивой и широкими волнами наплывающей музыке прозвучали грусть, смирение и какое-то захватывающее дух горное одиночество. Переливающиеся фразы, которым отвечали имитации во всех голосах, захватили играющих. Старый Шиллер, сам того не замечая, начал подтягивать фальцетом, стараясь усилить мелодию или как-то еще глубже выразить пронизывающее его чувство. В эту минуту он напоминал Эдгара. Они даже не заметили, как вошла с чаем Казя и, поставив поднос на стул, присела тут же у двери, вся обратившись в слух.
Анданте развертывалось, проходя через все перипетии, плывя непрерывными восьмерками. И только к концу первого периода появлялись фигурации шестнадцатыми, полные задумчивости и абсолютного отрешения. Паулина исполняла это проникновенно, а Людвик подтягивал почти шепотом, широко раскрыв глаза, сверкающие из-под выпуклых очков. Наконец фигурации стихли на четырехкратном повторе вздоха, глубокого вздоха — это была самая чистая музыка и вместе с тем приятие жизни, согласие на жизнь… и на смерть.
— Ох, как чудесно вы играли! — восторженно воскликнула Казя, подойдя к роялю.
— Ну еще бы, — с иронией откликнулся старый Шиллер.
С минуту еще они неподвижно сидели у рояля. Видно было, что они охвачены волнением. Наконец Паулина очнулась и потянулась за папиросами.
— Этот Бетховен как-то просветлил нас, — сказала она со смущенной, почти девичьей улыбкой, обращаясь к Казе.
Глава седьмая
Чертополох над собором
Через семь месяцев после смерти Зоей и через две недели после смерти Мальвинки Януш выбрался в Краков. Это был первый приступ той болезни, которую он чувствовал в себе все последующие годы, вплоть до самой войны, болезни, заключающейся в том, что ему хотелось побывать там, «где он уже бывал», хотелось вновь посетить те места, где он познал хотя бы минутное успокоение или нечто такое, что представлял себе как счастье. Сперва это была околица Коморова, где они гуляли с Зосей, места, которые они посещали еще до свадьбы или в начале женитьбы, а также садоводства под Сохачевом, где он у своих коллег и у приятелей Фибиха добывал для коморовских теплиц и парников новые сорта цветов или овощей.
Еще ранней весной начал он эти долгие, многочасовые прогулки, уводившие его лесом до самой Пущи Кампиносской, до Брохова, где они венчались так же, как и родители Шопена, до самых отдаленных лесных мест, которые были для него уже заповедником — чем-то неведомым, о чем никто не писал, но что было изумительно и действовало на него умиротворяюще.
Первоначально он не думал о том, что эти прогулки могут доставить ему удовольствие или как-то отвлечь от горестных мыслей. Он просто хотел утомиться, чтобы, вернувшись, повалиться на постель и уснуть как убитый, просто старался измотать свой здоровый и крепкий организм и спать так, чтобы не видеть снов. Потому что едва только что-то начинало сниться, сразу же являлась Зося — или как нечто призрачное или, наоборот, как очень реальный образ — иногда она даже стучала в дверь спальни, а иной раз только приоткрывала ее и заглядывала в щелку. Хуже всего было именно это заглядывание в щель, потому что тогда ее не было видно. Во сне Януш знал, что это Зося, что она стоит за дверью, что ищет ребенка, а для него у нее нет ни сочувственного взгляда, ни знака любви, просто заглядывает в их тесную коморовскую спальню — нет ли там ребенка. Януш все старался показать на детскую «садовую» комнату, прямо возле сеней, где Мальвинка спала, пока не остановилось ее сердце; все хотел сказать: «Она там», — но не мог двинуться, а Зося стояла за дверью и ждала, когда же он отдаст ей ребенка. Как-то раз он пронзительно закричал: «Нет ее, нет, нет, ты же сама забрала!» Крик его прозвучал в ночи ужасающе, он и сам сообразил, насколько страшен был этот крик. И тогда он услышал тихий стук как раз из той комнаты, где жила Мальвинка. Кто-то стучал ему, как в тюрьме — в стену. Это была Ядвига, которая после смерти ребенка продолжала жить в этой комнате. Только потом, гораздо позднее, переселилась она в комнату за кухней.
Появление Ядвиги в Коморове выглядело как-то вполне естественно. Еще на последних месяцах беременности Зосе пришло в голову обратиться к Досе Вевюрской, чтобы та порекомендовала ей какую-нибудь няньку, потому что она чувствовала себя все хуже и не надеялась, что сможет кормить новорожденного. Дося заговорила о «Жермене»-Ядвиге. И Дося и Зося знали, что Ядвига не может долго удержаться на одном месте из-за своего несносного характера и что непоседа она, каких не сыщешь. Но как бы то ни было, обе решили, что «всякое бывает, а вдруг девчонка возьмет да и привяжется к малышу» и что, может быть, все сложится наилучшим образом.
Правда, Зося питала к Ядвиге довольно странные и сложные чувства. С того вечера в филармонии, когда Ядя вела себя так вызывающе, Зося просто боялась ее и все никак не могла решиться вызвать ее в Коморов и поручить ей опеку над ребенком. А с другой стороны, Ядвига чем-то привлекала ее, Зося знала, что девушка очень привязана к Янушу, что благодарна ему за заботу о дяде и за все, что Януш сделал, чтобы добиться для Вевюрского смягчения приговора (правда, это ему так и не удалось). Она знала, что с Ядвигой ей будет очень тяжело, и в то же время понимала, что никому другому не сможет так доверять во всем.
Януш навсегда запомнил день, когда Ядвига приехала в Коморов. Время от времени ему снился и этот момент. К крыльцу по двору, которого Януш не любил и к которому так и не мог привыкнуть, по этому двору ехала в дождь небольшая желтая бричка. Она направлялась к дому — и во сне все не могла доехать, а тогда, наяву, доехала. И Януша вместо ожидаемого беспокойства охватил глубокий покой: наконец-то в Коморове есть кто-то живой и энергичный.