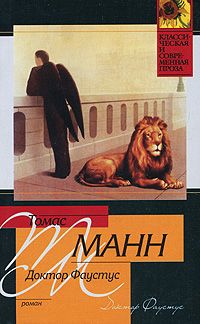Итак, продолжал лектор, считалось, что Бетховен не способен написать фугу, и теперь спрашивается, заключалась ли доля истины в этих злостных толках? По-видимому, он старался их опровергнуть. В последующие свои фортепьянные произведения он вводил фуги, а именно трёхголосные: возьмём, к примеру, «Сонату для молоточкового клавира» и сонату опус 110 в ля-бемоль-мажор. Однажды он приписал: «С некоторыми вольностями», — давая понять, что ему отлично известны правила, против которых он погрешает. Отчего он пренебрегал этими правилами? Из абсолютизма или от того, что с ними не справлялся, оставалось спорным. Позднее он создал Большую увертюру-фугу, опус 124, величественные фуги в «Gloria» и «Credo» из «Missa solemnis». Наконец-то было доказано, что в единоборстве и с этим ангелом великий человек остался победителем, даже если он и охромел в тяжкой схватке.
Кречмар рассказал нам страшную историю, которая глубоко запечатлела в наших сердцах тягость этой борьбы и образ великого страдальца. Это было в разгар лета 1819 года, в Мёдлинге, когда Бетховен, работая над мессой, приходил в отчаяние оттого, что каждая часть становилась длиннее, чем он предполагал поначалу; тем самым срок окончания работы, назначенный на март месяц следующего года и приуроченный к посвящению эрцгерцога Рудольфа в сан архиепископа Ольмюцского, явно не мог быть выдержан. Два его друга и адепта, заглянув под вечер в мёдлингский дом, узнали, что утром сбежали кухарка и горничная маэстро, так как прошедшей ночью произошла дикая сцена, пробудившая всех и вся в доме. Маэстро работал до глубокой ночи над Credo, Credo с фугой, и не вспомнил об ужине, стоявшем на плите; в конце концов девушек, тщетно дожидавшихся на кухне, сморило сном. Когда в первом часу ночи маэстро почувствовал голод, он нашёл их обеих спящими, кушанье же пересушенным, подгоревшим и впал в ярость, тем менее пощадившую уснувший дом, что сам он не мог слышать своих криков.
— Неужто вы не могли подождать меня какой-нибудь час? — без умолку гремел он. Но тут речь шла не о часе, а о пяти, шести часах, и разобидевшиеся девушки чуть свет убежали из дому, бросив на произвол судьбы своего буйного хозяина, который ничего не ел уже со вчерашнего обеда. Так, ничем не подкрепившись, он и работал в своей комнате над Credo, Credo с фугой. Молодые люди слышали сквозь запертую дверь, как он работает. Глухой пел, выл, топал ногами, трудясь над своим Credo, и слушать это было так ужасно, что у них кровь застыла в жилах. В миг, когда они, потрясённые до глубины души, уже собрались удалиться, дверь вдруг распахнулась — в ней, точно в раме, стоял Бетховен. Но как он выглядел? Ужасно! Растерзанная одежда, черты лица до того искажённые, что страшно было смотреть. На них уставились его вслушивающиеся глаза со взором смятенным и отсутствующим; казалось, он только что вышел из смертного боя с целым сонмом злых духов контрапункта. Сначала он нечленораздельно что-то бормотал, а затем стал бранчливо жаловаться на развал в доме — все его бросили, он голодает. Молодые люди пытались его успокоить, один помог привести в порядок одежду, другой помчался в ресторацию и принёс готовый обед… Месса была закончена лишь три года спустя.
Мы её не знали и только в этот вечер о ней услышали. Но кто же станет отрицать, что поучительно и слышать о великом? Правда, многое зависит от того, как о нём говорят. Когда мы шли домой с лекции Венделя Кречмара, нам казалось, что сейчас мы слышали мессу собственными ушами; этой иллюзии немало способствовал и образ измученного бессонной ночью, изголодавшегося композитора в рамке двери, который он так ярко обрисовал.
Вот что рассказал Кречмар о «Бетховене и фуге», и, право же, это давало нам вдосталь материала для разговоров по пути домой, а также для совместного молчания и тихих, неясных мыслей о новом, далёком, великом, что проникло нам в души благодаря этой то беглой, торопливой, то вдруг до ужаса замедленной, спотыкающейся речи. Я сказал «нам в души», но разумел я при этом, конечно, только душу Адриана. Что я слышал и воспринимал, никого интересовать не может.
Как выяснилось из разговора по дороге домой и на следующий день во время перемены, Адриана больше всего поразило различие, проведённое Кречмаром между эпохами культа и культуры, а также его замечание о том, что обмирщение искусства, его отрыв от богослужения носит лишь поверхностный, эпизодический характер. Он был захвачен мыслью, которую лектор не высказал, но зажёг в нём, а именно, что отрыв искусства от литургического целого, его освобождение и возвышение до одиноко-личного, до культурной самоцели, обременило его безотносительной торжественностью, абсолютной серьёзностью, пафосом страдания; словом, тем, что олицетворило страшное видение, — Бетховен в рамке двери, и что не, должно стать вечной судьбой искусства, постоянной его душевной атмосферой. И это слова юноши, гимназиста! Почти без практического опыта в искусстве он фантазировал, так сказать, на пустом месте и по-взрослому мудро говорил о предстоящем, вероятно, умалении нынешней его роли, о том, что она сведётся к более скромной и счастливой, к служению высшему союзу, который вовсе не должен, как некогда, быть церковью. Чем он должен быть, Адриан сказать затруднялся. Но что идея культуры — исторически преходящая идея, что она может раствориться в чём-то высшем, что будущее не обязательно должно ей принадлежать, эту мысль он выловил из рассуждений Кречмара.
— Но ведь альтернатива культуры, — вставил я, — варварство.
— Позволь, — отвечал он, — варварство является противоположностью культуры лишь в системе определённых воззрений, созданной всё тою же культурой. Вне этой системы оно означает нечто совсем другое, отнюдь не противоположность.
Имитируя Луку Чимабуэ, я воскликнул: «Santa Maria!»[14] — и перекрестился. Адриан фыркнул.
В другой раз он высказал следующую мысль:
— Для культурной эпохи в наши дни, по-моему, что-то многовато говорят о культуре. Правда? Хотел бы я знать, было ли в эпохи, обладавшие культурой, вообще известно это слово, употреблялось ли оно, вертелось ли вечно на языке у тогдашних людей? Мне лично наивность, бессознательность, самоочевидность кажутся неотъемлемыми признаками того явления, которое мы зовём культурой. Нам как раз недостаёт наивности, и этот недостаток, если можно здесь говорить о недостатке, спасает нас от красочного варварства, которое, бесспорно, уживалось с культурой, даже очень высокой. Я хочу сказать: та ступень, на которой мы стоим, несомненно весьма похвальная ступень цивилизации, но так же несомненно, что нам надо изрядно набраться варварства, чтобы вновь обрести способность к культуре. Техника, комфорт — вот что объявляют культурой, а это не так. Не станешь же ты спорить, что в гомофонно-мелодическом строе нашей музыки тоже наличествует состояние цивилизации — в противовес старой контрапунктически-полифонической культуре?
В таких речах, которыми он дразнил и раздражал меня, многое говорилось с чужих слов. Но Адриана отличала такая манера усвоения, такое личное воспроизведение наскоро схваченного, что его разговоры, хоть и мальчишески несамостоятельные, отнюдь не казались смешными. Он или, вернее, мы долго обсуждали в оживлённой беседе и другую лекцию Кречмара, которая называлась «Музыка и глаз», — и тоже, несомненно, заслуживала более обширной аудитории. Как явствует из названия, наш лектор говорил в ней о своём искусстве постольку, поскольку оно обращено к зрению, или заодно и к зрению, что явствует, как он утверждал, уже из того, что музыку записывают с помощью знаков, нотного письма, которое с эпохи древних невм, этих обозначений мелодии штрихами и точками, лишь приблизительно воспроизводивших её движение, не переставала совершенствоваться и уточняться. Примеры, приводимые Кречмаром, были весьма занимательны и даже льстили нам, ибо создавали видимость интимного общения с музыкой — так общается с живописью растирающий краски юный ученик. Он доказывал, что многие обороты музыкантского жаргона идут не от акустических, но от зрительных впечатлений, от нотных знаков; он говорил о внешнем виде записанной музыки и уверял, что знатоку достаточно взглянуть на ноты, чтобы составить себе исчерпывающее мнение о духе и достоинстве композиции. С ним, например, произошёл следующий случай: как-то раз в его комнату, где на пюпитре стояла раскрытая тетрадь с неким дилетантским изделием, вошёл коллега-музыкант и ещё с порога крикнул: «Что это там у тебя за дерьмо, скажи на милость?» И, напротив, какое наслаждение доставляет намётанному глазу оптический образ партитуры Моцарта — ясность диспозиции, прекрасное распределение инструментальных групп, остроумное варьирование чётко проводимой мелодической линии. Даже глухой, воскликнул Кречмар, ровно ничего не смыслящий в звуке, не может не радоваться этому прелестному облику партитуры. «То hear with eyes belongs to love's fine wit»[15], — цитировал он шекспировский сонет и уверял нас, что композиторы всех времён тайно вписывали в свои строки то, что предназначалось для читающего глаза, а вовсе не для уха. Если, скажем, нидерландские мастера полифонического стиля в своих головоломках строили контрапунктические отношения перекрещивающихся голосов так, чтобы один голос точно повторял другой, если читать его с конца к началу, то вряд ли это имело какое-либо касательство к чувственному звуку; он готов биться об заклад, что лишь очень немногие были способны уловить на слух подобную шутку, скорее она предназначалась для глаз его коллег. Так Орландо Лассо в «Браке в Кане Галилейской» для шести кувшинов с водой использовал шесть голосов, и зрительно это сосчитать легче, чем на слух; а в «Страстях Иоанна» Иоахима фон Бурка «одному из слуг», тому, что даёт пощёчину Иисусу, композитором дана только одна нота, тогда как на «двое» в следующей фразе «и двое с ним других» соответственно приходятся две.