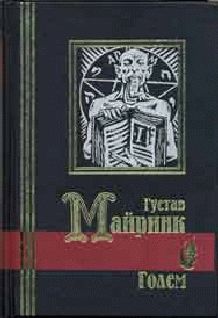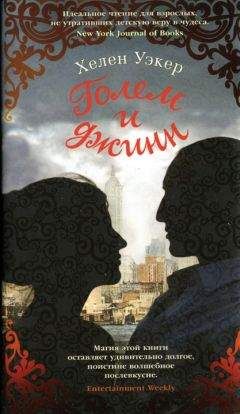Чувствовать буквы и читать их не только глазами, создать истолкователя немого языка человеческих инстинктов – вот ключ к тому, чтобы ясным языком говорить с самим собою.
«Они имеют глаза и не видят, они имеют уши и не слышат»,– вспомнился мне библейский текст как подтверждение этому.
«Ключ! ключ! ключ!» – механически повторяли мои губы в то время, как разум мой комбинировал эти странные идеи.
«Ключ, ключ?..» – мой взгляд упал на кривую проволоку в моей руке, посредством которой я только что открывал дверь, и острое любопытство охватило меня – узнать, куда ведет четырехугольная подъемная дверь из ателье.
Не долго думая, я вернулся в ателье Савиоли. Потянул ручку подъемной двери, и с трудом мне удалось, наконец, поднять доску.
Сначала – только темнота.
Затем я увидел узкие круглые ступеньки, сбегающие вниз в глубокую тьму.
Я стал спускаться.
Долго нащупывал я рукой стены, но им не было конца: углубления, влажные от гнили и от сырости, повороты, углы, изгибы, ходы вперед, направо и налево, обломки старых деревянных дверей, перекрестки, и затем снова ступени, ступени, ступени вверх и вниз.
Повсюду спертый, удушливый запах плесени и земли.
И все еще ни луча света.
Ах, если бы я захватил с собой свечку Гиллеля!
Наконец, ровная, гладкая дорога.
По хрусту под ногами, я понял, что ступаю по сухому песку.
Это мог быть только один из тех бесчисленных ходов, которые как будто без цели и смысла ведут подземным путем к реке.
Я не удивлялся: половина города уже с незапамятных времен стоит на таких подземных ходах, жители Праги издавна имели достаточно оснований бояться дневного света.
Несмотря на то, что я шел уже целую вечность, по отсутствию малейшего шума над головой я понимал, что все еще нахожусь в пределах еврейского квартала, который на ночь как бы вымирает. Оживленные улицы или площади надо мной дали бы знать о себе отдаленным шумом экипажей.
На мгновение меня охватил страх: что, если я не выберусь отсюда?
Попаду в яму, расшибусь, сломаю ногу и не смогу идти дальше?!
Что будет тогда с ее письмами в моей комнате? Они неизбежно попадут в руки Вассертрума.
Мысль о Шемайе Гиллеле, с которым я смутно связывая представление о защитнике и руководителе, незаметно успокоила меня. Из предосторожности все же я пошел медленнее, нащупывая путь и держа руку над головой, чтобы нечаянно не стукнуться, если бы свод стал ниже.
Время от времени, потом все чаще и чаще я доставал рукой до верха, и, наконец, свод спустился так низко, что я должен был продолжать путь согнувшись.
Вдруг мои руки очутились в пустом пространстве.
Я остановился и огляделся.
Мне показалось, что с потолка проникает скудный, едва ощутимый, луч света.
Может быть, здесь кончался спуск в какой-нибудь погреб?
Я выпрямился и обеими руками стал ощупывать над головой четырехугольное отверстие, выложенное по краям кирпичом.
Постепенно мне удалось различить смутные очертания горизонтального креста. Я изловчился, ухватился за его концы, подтянулся и взлез наверх.
Я стоял теперь на кресте и соображал.
Очевидно, если меня не обманывает осязание, здесь оканчиваются обломки железной винтовой лестницы.
Долго, неимоверно долго, нащупывал я, пока не нашел вторую ступеньку и не взлез на нее.
Всего было восемь ступеней.
Одна выше другой на человеческий рост.
Странно: лестница упиралась вверху в какую-то горизонтальную настилку, через переплет которой проходил свет, замеченный мною уже внизу.
Я нагнулся, как можно ниже, чтобы издали яснее различить направление линий, и, к моему изумлению, увидел, что они образовывали шестиугольник, какой обыкновенно встречается в синагогах.
Что бы это могло быть?
Вдруг я сообразил: это была подъемная дверь, которая по краям пропускала свет. Деревянная подъемная дверь в виде звезды!
Я уперся плечом в доску, поднял ее и тут же очутился в комнате, залитой ярким лунным светом.
Комната была небольшая, совершенно пустая, если не считать кучи хлама в углу,– единственное окно было загорожено частой решеткой.
Как старательно ни обыскивал я все стены, ни двери, ни какого-нибудь другого входа, кроме того, которым я только что воспользовался, я отыскать не мог.
Решетка окна была усеяна так тесно прутьями, что я не мог просунуть голову. Однако, вот что я увидел: комната находилась приблизительно на высоте третьего этажа, потому что дома напротив были двухэтажные и стояли ниже.
Один край улицы внизу был доступен взору, но из-за ослепительного лунного света, бившего прямо в глаза, он казался совершенно темным, и я не мог разглядеть деталей.
Во всяком случае, эта улица принадлежала к еврейскому кварталу: окна были или заложены кирпичом, или обозначены только карнизами, а лишь в гетто дома так странно обращены друг к другу спиной!
Тщетно пытался я сообразить, что это было за странное здание, в котором я очутился.
Может быть, это заброшенная боковая башенка греческой церкви? Или эта комната находилась в Староновой синагоге?
Но окружавшее не соответствовало этому.
Снова осмотрелся я – в комнате ничего, что могло бы дать мне хоть малейший намек на объяснение. Голые стены и потолок, с давно отвалившейся штукатуркой, ни дырочки от гвоздя, ни гвоздя, который бы указывал на то, что когда-то здесь жили люди.
Пол был покрыт толстым слоем пыли, как будто десятилетия уже никто не появлялся здесь.
Мне было противно разбираться в куче хлама. Она лежала в глубокой темноте, и я не мог различить, из чего она состояла.
С виду казалось, что это – тряпье, связанное в узел.
Или, может быть, несколько старых, черных чемоданов?
Я ткнул ногой, и мне удалось таким образом вытянуть часть хлама к полосе лунного света. Длинная темная лента медленно развертывалась на полу.
Светящаяся точка глаза?..
Быть может, металлическая пуговица?
Мало-помалу мне стало ясно: рукав странного старомодного покроя торчал из узла.
Под ним была маленькая белая шкатулка или что-то в этом роде: она рассыпалась под моей ногой и распалась на множество пластинок с пятнами.
Я слегка толкнул ее: один лист вылетел на свет.
Картинка?
Я наклонился: пагад?
То, что мне казалось белой шкатулкой, была колода игральных карт.
Я поднял ее.
Могло ли быть что-либо комичнее: карты, здесь, в этом заколдованном месте.
Так странно, что я не мог не улыбнуться. Легкое чувство страха подкралось ко мне.
Я искал какого-нибудь простого объяснения, как могли эти карты очутиться здесь, при этом я механически пересчитал их. Полностью: 78 штук. И уже во время пересчитывания я заметил, карты были словно изо льда.
Морозным холодом веяло от них, и, зажав пачку в руке, я уже не мог выпустить ее, так закоченели пальцы. Снова я стал искать естественного объяснения.
Легкий костюм, долгое путешествие без пальто и без шляпы по подземным ходам, суровая зимняя ночь, каменные стены, отчаянный мороз, проникавший с лунным светом в окно: довольно странно, что я только теперь начал мерзнуть. До сих пор мешало этому возбуждение, обуявшее меня…
Дрожь пробежала по мне, все глубже и глубже она проникала в мое тело.
Я чувствовал холод в костях, точно они были холодными металлическими прутьями, к которым примерзло мое тело.
Я бегал по комнате, топал ногами, хлопая руками – ничто не помогало. Я крепко стиснул зубы: чтоб не слышать их скрежета.
Это смерть, подумал я, она касается холодными руками моего затылка.
И, как безумный, я стал бороться с подавляющим сном замерзания; мягко и удушливо покрывал он меня, как плащом.
Письма в моей комнате,– ее письма! раздался во мне какой-то вопль. Их найдут, если я здесь умру. А она надеется на меня. Моим рукам она доверила свое спасение!
– Гиллель! Гибну! Гибну! Помогите!
И я кричал в оконную решетку вниз, на пустынную улицу, а оттуда слышалось эхом: «Помогите, помогите, помогите!»
Я бросался на землю и снова вскакивал. Я не смею умереть, не смею! Ради нее, только ради нее! Хотя бы пришлось высекать искры из своих собственных костей, чтобы согреться.
Мой взгляд упал на тряпье в углу, я бросился к нему и дрожащими руками накинул что-то поверх своей одежды.
Это был обтрепанный костюм из толстого темного сукна, старомодного, очень странного покроя.
От него несло гнилью.
Я забился в противоположный угол и чувствовал, как моя кожа постепенно согревается. Но страшное ощущение ледяного скелета внутри моего тела не покидало меня. Я сидел без движения, блуждая взором: карта, которую я раньше заметил – пагад – все еще лежала среди комнаты в полосе лунного света.
Я смотрел на нее, не отрываясь.
Насколько я мог видеть, она была раскрашена акварелью, неопытной детской рукой, и изображал еврейскую букву «алеф» в виде человека в старофранконском костюме, с коротко остриженной седой острой бородкой, с поднятой левой рукой и опущенной правой.