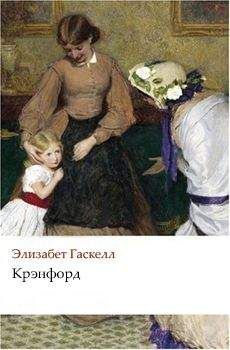— Мы должны их сжечь, я полагаю, — сказала мисс Мэтти, нерешительно поглядывая на меня. — Кому они будут нужны, когда меня не станет?
И одно за другим она начала бросать их в пылающий огонь, дожидаясь, чтобы каждое вспыхнуло, сгорело и улетело в трубу легким белым пеплом, и лишь затем обрекая на ту же судьбу следующее. В комнате теперь стало достаточно светло, но я, как и она, завороженно следила за гибелью этих писем, заключавших искренний жар честного мужественного сердца.
Далее следовало письмо тоже с пометкой мисс Дженкинс: «Письмо с благочестивыми поздравлениями и наставлениями от моего достопочтенного деда моей возлюбленной матушке по поводу моего рождения. А также несколько практических советов о желательности содержания конечностей новорожденных младенцев в тепле от моей добросердечной бабушки».
Первая часть действительно заключала в себе суровую и проникновенную картину материнских обязанностей и предостережения против зол этого мира, которые грозно подстерегают двухдневного ребенка. Жена его ничего не пишет, добавил старый джентльмен, ибо он ей это запретил, так как нездоровье, вызванное вывихнутой лодыжкой, не позволяет ей (заявил он) держать в руке перо.
Однако в самом низу страницы стояло крохотное «перевернуть», и на обороте действительно оказалось письмо к «моей милой, милой Молли» с просьбой, чтобы она, выйдя из своей комнаты в первый раз, ради всего святого, поднялась бы по лестнице вверх, а ни в коем случае не спустилась бы вниз, и с советом укутывать ножки малютки во фланель и греть ее у огня, хотя сейчас и лето, потому что младенцы такие слабенькие.
Было очень трогательно наблюдать по письмам, которыми молодая мать, по-видимому, постоянно обменивалась с бабушкой, как любовь к ребенку изгоняет из ее сердца девическое тщеславие. В них опять начало фигурировать белое «падуасуа», вновь заняв весьма видное место. В одном оно было перешито в крестильный наряд для младенца. Оно украшало малютку, когда она вместе с родителями отправилась погостить день-другой в Арли-Холле. Оно делало ее еще прелестней, когда она была «самой прилесной крошкой на всем свете. Милая матушка, если бы вы видели ее! Скажу безпрестрасно, она обещает вырасти настоящей красавицей!». Я вспомнила мисс Дженкинс, седую, морщинистую, иссохшую, и подумала, а узнала ли ее мать среди райских кущей. И тут же почувствовала, что да, узнала и что они предстали там друг другу в ангельском обличий.
Письма священника появились вновь только после большого перерыва. И его жена метила их уже по-другому — не от «моего дорогого Джона», но от «моего досточтимого супруга». Письма писались по случаю издания той самой проповеди, которая была изображена на портрете. Эта проповедь, произнесенная «перед его честью верховным судьей», а затем «изданная по желанию прихожан», была, по-видимому, кульминацией, центральным событием всей его жизни. Ему пришлось поехать в Лондон, чтобы проследить за тем, как ее будут печатать. Он посетил многих друзей и советовался со всеми ними, прежде чем решил, какому типографу можно поручить столь важное дело, и в конце концов почетная обязанность была возложена на Дж. и Дж. Ривингтонов. Этот торжественный случай, по-видимому, пробудил в достойном священнослужителе особое литературное вдохновение, так как во всех его письмах к жене непременно появлялась латынь. Одно из них, я помню, кончалось так: «И я вечно храню в памяти добродетели моей Молли, dum memor ipse mei, dum spiritus regit artus»,[25] что, принимая во внимание не слишком гладкий стиль и нередкие орфографические ошибки той, кому он писал, неопровержимо доказывает, насколько он «идеализировал» свою Молли, а, как говаривала мисс Дженкинс: «Нынче люди постоянно твердят об идеализировании, что бы это слово ни значило». Но и это было пустяками по сравнению с латинскими виршами, которые ему вдруг пришла охота сочинять и в которых Молли неизменно фигурировала как «Мария». Письмо с carmen[26] было снабжено ее пометкой: «Древнееврейские стихи, присланные мне моим досточтимым супругом, когда я ожидала письма, колоть ли свинью, но придется подождать. Не забыть послать эту поэмму сэру Питеру Арли, как желает мой супруг». В приписке, сделанной его рукой, указывалось, что она была напечатана в «Журнале для джентльменов» за декабрь 1782 года.
Ее письма мужу (которые он хранил так бережно, словно это были Epistolae[27] Марка Туллия Цицерона[28]), несомненно, приносили отсутствовавшему супругу и отцу гораздо больше удовлетворения, чем его письма ей. Она рассказывала ему о том, как Дебора каждый день очень аккуратно подрубает заданный шов и читает ей вслух из книг, которые он указал, и какая она «бойкая не по летам», послушная девочка, но все время задает вопросы, на которые ее мать не знает, что ответить. Но, конечно, она не роняет себя, говоря «не знаю», а либо начинает мешать уголь в камине, либо отсылает «бойкую» девочку с каким-нибудь поручением. Теперь любимицей матери была Мэтти, обещавшая (подобно сестре в ее возрасте) стать настоящей красавицей. Это я прочла мисс Мэтти вслух, а она улыбнулась и слегка вздохнула, когда я дошла до простодушного пожелания, чтобы «малютка Мэтти не была щиславной, даже если она и вырастет красавицей».
— У меня были прелестные волосы, милочка, — сказала мисс Мэтти, — и красивые губы.
И я заметила, что она тут же поправила чепец и выпрямилась, Но вернемся к письмам миссис Дженкинс. Она рассказывала мужу о приходских бедняках — какие незатейливые домашние лекарства она прописала, какое послала подкрепляющее средство прямо с плиты. По-видимому, она грозила всем бездельникам, розгой его гнева. Она спрашивала у него распоряжений относительно коров и свиней, хотя не всегда их получала, как я уже упомянула выше.
Когда вскоре после напечатания проповеди у них родился сын, добрая бабушка уже скончалась, но в пачке хранилось еще одно письмо от деда, еще более суровое и зловещее, так как теперь от ловушек света следовало оберегать мальчика. Старик живописал все разнообразные грехи, в которые может впасть мужчина, и к концу я уже не понимала, каким образом хоть одному мужчине удается умереть естественной смертью. У меня создалось впечатление, что жизнь почти всех друзей и знакомых почтенного старца должна была неизбежно завершаться виселицей, и меня нисколько не удивило, что жизнь человеческую он называл не иначе как «юдолью слез».
Мне показалось странным, что я никогда прежде ничего не слышала про этого брата, но я решила, что он умер во младенчестве, — иначе его сестры, конечно же, упоминали бы его имя.
Мало-помалу мы добрались до пакетов, содержавших письма мисс Дженкинс. Их мисс Мэтти было жаль сжигать. Прочие, сказала она, интересны только тем, кто любил писавших, и ей было бы больно, если бы они попали в руки чужих людей, которые не знали дорогой матушки, не знали, какой превосходной женщиной она была, хотя и не всегда писала слова так, как их пишут нынче. Но письма Деборы так прекрасны! Чтение их может принести пользу кому угодно. Она довольно давно читала миссис Чэпоун,[29] но помнит, как думала тогда, что Дебора могла бы сказать то же самое нисколько не хуже. Ну, а миссис Картер![30] Ее письма восхваляют только потому, что она написала «Эпиктета», но зато Дебора никогда бы не позволила себе употребить столь простонародное выражение, как «видать»!
Мисс Мэтти очень не хотелось предавать эти письма огню, что было совсем нетрудно заметить. Она не допустила, чтобы я быстро и небрежно прочитала их про себя. Нет, она забрала их у меня и даже зажгла вторую свечу, чтобы прочесть их вслух с надлежащим выражением и не запинаясь на длинных словах. О, боже мой! Как я жаждала фактов вместо рассуждений, пока длилось это чтение! Этих писем нам хватило на два вечера, и не скрою, что я успела за это время поразмыслить над всякой всячиной, хотя неизменно оказывалась на своем посту к концу каждого предложения.
Письма священника, его жены и тещи все были достаточно кратки и содержательны, а кроме того, написаны простым почерком и тесными строчками. Иной раз целое письмо умещалось на четвертушке листа. Бумага пожелтела, чернила побурели, а некоторые листы (как объяснила мне мисс Мэтти) пересылались еще старинной почтой: штамп в уголке изображал почтальона, мчащегося во весь дух на коне и трубящего в рог. Письма миссис Дженкинс и ее матери заклеивались большими круглыми красными облатками, ибо писались еще до того, как «Покровительство» мисс Эджуорт[31] изгнало употребление облаток из приличного общества. Судя по всему, франкированные конверты были в большой цене, и стесненные в средствах члены парламента даже расплачивались ими со своими кредиторами. Преподобный Дженкинс запечатывал свои эпистолы огромной печатью с гербом, и по тому тщанию, с каким исполнялся этот обряд, можно было заключить, что, по его мнению, их надлежало аккуратно вскрывать, а не ломать печать небрежной или нетерпеливой рукой. Письма же мисс Дженкинс принадлежали более поздней эпохе как по форме, так и по почерку. Они писались на квадратных листках, которые мы давно уже называем старомодными. Ее почерк в сочетании с ее пристрастием к многосложным словам был превосходно приспособлен для того, чтобы заполнить такой лист, после чего можно было с гордостью и удовольствием искусно писать поперек него. Бедную мисс Мэтти это ставило в тупик, так как слова разрастались, точно снежный ком, и к концу письма достигали невероятной величины. В одном из писем к отцу, несколько богословском и аргументативном по тону, мисс Дженкинс упомянула Ирода, тетрарха Идумеи. Мисс Мэтти прочла вместо этого «Ирод, петрарх Этрурии» и была довольна так, словно нисколечко не ошиблась.