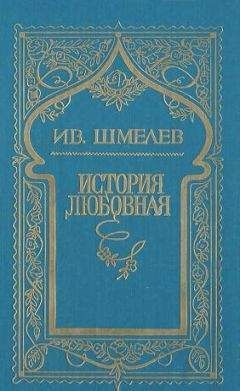Женька махнул рукой.
– Ты не знаешь же-нщин! – сказал он басом. – А ну-ка, почитай про… чего ты написал! – и я по его глазам понял, что он боится, что я написал лучше.
Задыхаясь, я прочитал – «Неуловима, как зарница…», что написалось утром.
Я сразу понял, что зацепил его. Он потягивал себя за нос, моргал и морщился. – Вот дак… сочинил! – проговорил он раздумчиво, а я хорошо заметил, как натянулось его лицо. – Это ты просто под Пушкина! Сразу видно, что его дух! «Скажи мне, чудная девица!…»
– Во-первых, не «девица», а «певица»!
– Ну – певица… Это сразу видно. «Спой мне песню, как синица…» Девица, певица, синица…
В нем кипела досада, зависть – по глазам видно было. Это после его-то – «что да»! А у меня – «Погасну в мраке дней моих»! В «Ниве» даже напечатать можно! А у него – «что да»!
– Стихи – пустяки! – проговорил он, позевывая, и я сразу почувствовал, что и зевает-то он с досады. – Женщины ничего в стихах не смыслят! Женских поэтов нет?! Пушкин, Лермонтов, Кольцов, Вашков… Надсон! А ни одной бабы нет. Им не стихи, а они любят в мужчине силу и… упорство! У нас на дворе гимнаст из цирка живет, так какие красавицы к нему ездят, с буке-тами! Купчиха с Ордынки отравилась на крыльце, даже в газетах было… С Македоновым он приятель… И говорил всегда: «Если хотите успехов – развивайте мускулатуру!» Гляди… как сталь!
– Ну… а зачем ты сразу через два класса? Это же ложь! – зацепился я за последнее, лишь бы его притиснуть.
– Ну, а что тут особенного! – растерялся он и сейчас же полез наскоком. – Я и должен быть в седьмом! Это «Васька» меня несправедливо… А она все равно не знает. И по фигуре в седьмом как раз! Чтобы заинтересовалась. Все-таки солидней!…
– Обманом хочешь, а не своими достоинствами! – не знал я, чем бы его донять. – Но ты же… но она же может обидеться… Ты говоришь, погоди… глупо ее любить! Это же оскорбление?!
– Какая же ты дубина! – усмехнулся Женька. – Во-первых, я пускаю комплимент… Это сказал сам Пушкин! Ты пойми: кто вас не любит, тот… в сто раз глупей!! Значит, я весь в ее власти! Какая тонкость слов! Это же ка-кой комплимент! Только Пушкин мог так тонко…! Сейчас подсуну ей под дверь, и будем ждать в Нескучном.
В Нескучном, где «Первая любовь»!…
Он ушел торжествующий, а я терзался. Ну да, он сильнее меня и выше. И очень остроумен, а женщины это любят. Он станет ей врать и хвастаться. Пожалуй, скажет, что я горничной написал стихи?… Ну и пусть, и пусть!…
«Хорошенькие… как вы!» – радостно вспомнил я.
И вспомнилось со стыдом: «с горничными это не считается!»
Радостное, с чем я проснулся и что сияло во мне весь день, сменилось тоской и болью. Я почувствовал пустоту в душе, словно покинут всеми. Лучезарная Зинаида, являвшаяся мне в ней, погибла.
…Неужели она – смеялась?… Заглядывала в садик, нежно ласкала Мику… И этот небесный голос! «А то бы я вас расцеловала!»… А сегодня! Напевала: «Кого-то нет, кого-то жаль…» Показывала косы, завлекала, а сама обещалась Женьке, прогуливалась с ним под ручку. Самая бессердечная кокетка!
…Женька прекрасно знает, как надо с ними. «Когда идешь к женщине, бери хлыст и розу!» И там, в «Первой любви», ударяли ее хлыстом, а она целовала руки! И это – Зинаида, самая дивная из женщин! А эти акушерки…
Я ненавидел Женьку, хотел, чтобы с ним что-нибудь случилось, чтобы наскочил извозчик… Теперь он уже подсунул письмо под дверь. Она уже прочитала, спешит в Нескучный… Может и не догадаться, что это Пушкин! Увлечется его «талантом», лестью… Женщины любят, чтобы льстили. «Но кто не любит вас, тот во сто раз глупей!» Какая тонкая лесть! Долгоносый и пучеглазый понравиться не может, так хочет лестью. Похвастается силой, женщины любят сильных… и уродов! Красавицы часто выходят за уродов. Мария и – Мазепа!…
…Посвятил стихи… горничной! Ни один поэт не посвящал прислуге… «Тебе, прекрасная из Муз!» Она даже не поняла, спросила: «А что такое „измус“?» Какая гадость! Всегда с тряпкой, возится с кучерами, говорит «екзаменты учут», спит в каморке на сундуке, неграмотная, и руки жесткие… И ей я поднес стихи!…
Я вспоминал с отвращением, как она сказала: «Ежели до гроба любят, так всегда бывает один предмет!» Предмет!… Только портнихи говорят так: «Предмет»! «Ужли это вы сами насказали?!» Насказали! У Женьки поражающая красавица, с дивными волосами, развитая, была на курсах, а у меня неотес, прислуга! «Прекрасная… измус»! Боже, что я наделал!
Я услыхал Пашины шаги, и меня передернуло. Чего она ко мне все лезет? Вот нахалка!…
Не спросясь, она отворила дверь.
– Сердются, останетесь без чаю! Все отпили…
Я не оглянулся, крикнул:
– Не сметь входить в мою комнату без спросу!
– Ишь, строгие какие стали! – сказала она шутливо. – Чего надулись? Она так смеет! Не оглядываясь, я крикнул:
– Можете так говорить… конторщикам, с кучерами возиться… а не со мной! Не желаю чаю!…
– По-думаешь!… страсти какие, испугали! – сказала она дерзко, постояла, – я все-таки не оглянулся! – подождала чего-то и хлопнула дерзко дверью.
«Вот какая!… – подумал я, – а потому что я с ней запанибрата. С ними нельзя запанибрата!»
Дверь приотворилась. Я оглянулся – и увидел Пашу. Лицо у ней было красно, глаза блестели.
– Вы, Тоня, не смеете так, не смеете!… – зашептала она прерывисто. – Я не гулящая какая, не шлющая!… Что у меня отца-матери нет, так… – губы у ней запрыгали, – позорите?… Все ругают, а от вас мне еще горчей…
И ушла, хлопнув дверью.
Это меня очень удивило. Мне казалось, что она за дверью, стоит и плачет. Я схватил геометрию и бросил на пол. Поглядел на тополь. Увидал подснежники в стакане… Мелькнуло утром, светлым теплом и холодочком, и я услыхал, как пахнет тополями.
Зачем я ее обидел?!.
Я послушал: шуршало в коридоре, как будто – плачет? И меня охватила жалость.
Но чем я ее обидел? Она не должна, конечно, входить без спросу… А что она с кучером возилась… это правда! Сбила с него картуз, выхватила билетик, всегда смеется… И я должен еще просить прощенья?!.
Из столовой кричали – Па-ша! Я слышал, как она побежала на носочках. Значит, она стояла, дожидалась, что я выйду и попрошу прощенья? Никогда не попрошу прощенья! Подарила подснежники, думает, что теперь… А я посвятил стихи! Это выше ее подснежников… Они у нее за лифчиком… А если она покажет?
И меня охватил ужас.
Вдруг она кучеру покажет, конторщику?!. Весь двор узнает, Гришка, все лавочники, скорнячиха, Василь Васильич!… Похвастается, что я влюбился, стишок написал любовный! Узнают наши, и тетка, и «сущевка»… Уточку подарил с душками, ухаживал! С уточки началось… Зачем я подарил уточку?! Всю неделю не покупал на завтрак, откладывал все на уточку!…
Нет, не скажет. Она подарила мне яичко, подснежники! Конечно, я не скажу, у меня хватит благородства, я-то ее не опозорю!… Нет, не скажет… Конечно, надо объясниться, я вовсе не хотел оскорбить… Так меня все расстроило…
И тут я вспомнил, что она собирается в Нескучный!…
Я кинулся к воротам. У ворот сидел на дежурстве Гришка, со свистком и бляхой. Я выскочил к нему как угорелый. – Ай кто едет?! – перепугался Гришка и быстро оправил бляху.
Мы выскакивали к воротам, когда проезжал Царь в Нескучный. Но я нашелся: – Пожарные будто скачут?…
– А я че-го подумал!… Нет, с каланчи не подавали. Да и народ не бегет… – осмотрелся Гришка. – Садитесь, подежурим.
– Да нет… Не проходил Женя?
– Видал давеча, проходили. Звонился к повитухе… должно, родить у них занадобилось кому. Дело это без задержки! Сестра, может…
– Нет, – сказал я, – ничего такого нету. А ты не видал… – Но Гришка и договорить не дал.
– У них нет – у Жени, может… для своей, может, требуется. Может, завел какую! Вот и подошло. Дело житейское.
Гришка всегда говорил такое. Он был уже не молод, но все его называли Гришкой – Плетун-Гришка.
– Нет, – сказал я, – ему только семнадцать!
– Ничего не означает. Это дело надобное. Кажная женщина должна… Господь наказал, чтобы рожать. Ещество-закон. Что народу ходит, а кажный вышел из женщины на показ жизни! Такое ещество. А без народу чего сделаешь! Железные дороги там, дома строить, гуляньи всякий… – все баба-женщина оправдывает! Я их страсть уважаю. Де-вять ей месяцев протаскать! Гляди, скольких она протаскала!… И кажный оправдать себя должен. У меня в деревне пятеро сынов, каких. И кажный себя доказывает…
– Конечно… – пытался я перебить его.
– Нет, от этого не уйдешь! – продолжал он, оглядывая свои сапоги. – От Бога вкладено, никто не обойдется. Кажный обязан доказать ещество! А то тот не оправдался, другой не желает, – все и прекратилось, конец! Этого нельзя. Кто тогда Богу молиться будет? О-чень устроено. Ишь как, ишь привдаряют! Не может она без этого. И вы, чай, на Пашу заглядываетесь. Ужли нет? А девочка хорошенькая, в самый раз…