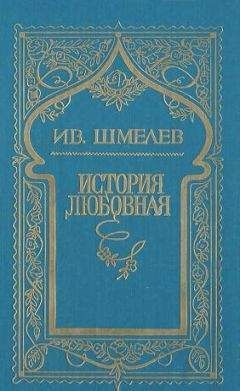У меня захватило дух.
– Ничего подобного! – сказал я. – Если заниматься книгами, никаких дурных мыслей!…
– Зачем дурных? Девчонку-то… Да они сами рады! Я б на вашем месте давно сыграл. А то другому кому поддастся… Гляди, как играться-то стала… самая ее пора. А молодое-то дело… «Рожа» вон… и тот норовит в куточек какой… к старухе ходит! В Банном они жили, все смеются. А я прямо говорю: это его занятие! Что Господь послал…
– Погоди, Гриша… Он позвонился, а потом? – Ну, барышня отперла…
– Сама?! Это… такая, красивая?
– Со-чная!… Прямо репка! Ну, он ей пакет подал – и побежал.
– Побежал?! А она…
– Чего, она? Она, понятно, как полагается. Стала собираться.
– Стала собираться?!.
– Мотнула головой – ладно, говорит, приду. Может, за извозчиком побег. Екстренность! Жалко тоже женщину, как она, может, опростаться не может. Их дело тоже… бе-довое! А вот решаются, вот что ты хочешь. Значит, так уж ей по закону требуется. Сами называются…
– Сами?…
– Вот я вам объясню, какой у них секрет замечательный. Кажная женщина имеет срок, как все равно звонок! И она, как увидит, что…
Подошли кучер и скорняки, и мне показалось неудобным слушать. Я побежал в залу – следить в окошко. Но плохо было видно, и я поспешил в садик. На дороге попалась тетка.
– Да что ты шмыжишь, как чумовой? То туда, то сюда… Учи екзаменты!
– В садике геометрию учу! – крикнул я. – На земле ее надо, теоремы!
– Вижу, чего ты шмыжишь! В бабки тебе с мальчишками!…
Я засмеялся даже.
– Смейся, смейся! Провалишься уж, попомни мое слово! Я даже и сон видала…
У меня засосало сердце.
Ничего не соображая и не стыдясь, я влез на заветную рябину. Она только что начинала распускаться, была в сероватых почках. И вдруг я услышал голос… ее серебристый хохот?… Я чуть не упал с рябины: она появилась на крылечке! Она смеялась. В руке у нее был розовый листочек! Женькин?! Тугая белая кофточка обтягивала ее девственную, но уже расцветшую фигуру. Вишневая шапочка игриво сидела на пышной ее головке, и роскошные волосы золотисто-темного каштана красиво обрамляли девственное лицо ее, на котором неумолимая жизнь не проложила еще своих нестираемых следов. Это была как Нелли из Эмара, перед красотой которой смягчилось сердце даже у «Серого Медведя»! Я разглядел капризные розовые губки и поражающие глаза, скрывавшиеся за синеватым пенсне, от солнца. Это продолжалось одно мгновенье. Она повернула за угол, к воротам. – Прогуляться идти изволите? – услыхал я вкрадчивый, сладкий голос.
Я даже вздрогнул. Из-под меня шел голос! Я понял, что это Карих: он стоял подо мной, в сарае.
– Да, немножко. Чудесная погода… – пропела она, как флейта.
– Прямо… райская погода! Счастливо погулять, нас не забывать! – послал ей вдогонку Карих.
Побежать к воротам? Но там торчали. Застывший, сидел я на рябине.
…Сразу пошла навстречу! Никакой гордости, ни чувства чести! Так поддалась обману… Не может понять, что ему нужна только женщина, как раба, добыча!!. Летит, как бабочка на огонь, а он, как Мефистофель, цинически хохочет! У него мефистофельское лицо! А она, девственно-чистая, как ребенок, стремится к бездне…
…Но она же акушерка! Все они легко смотрят… Женщины «сами называются»! И вот она ищет приключений, как такая, как арфистка Гашка… Сейчас покатят… Часы заложит за два рубля, на Рождестве закладывал! Мороженым угостит, в Сокольники прокатит… Потом…
От Гришки я много слышал. В семейные номера ходят. И сам я видел, когда приходилось дожидаться в банях.
…За сборкой сопит хозяин, дремлет. Коридорный банщик стучит в номер. Я жду, кто выйдет. Крючок отщелкнул. Макарка-банщик ловко заслоняет дверью, чтобы проскочили незаметно к другому входу. Но я вижу: пробежал розовый платочек; мужчина тяжело ступает, темный. «Пожалте-с!» – приглашает меня Макарка, утаскивая поднос с бутылкой. Идти я не решаюсь, сказать – стыдно. Хозяин говорит сонно: «Проведи в чистый номер!» Макарка ведет с ворчанием: «Все чисты!» Противен его голос, вихляющая походка, ситцевые розовые штаны, болтающиеся, как на палках, прелый, тяжелый воздух, сырые стены, разбитое зеркало в камине… Я сажусь на чистую простынку и подбираю ноги. Ковер холодный, мокрый. И вижу – образ! Пыльная вербочка, сухая… под праздник горит лампадка. Думаю о «грехе», о Боге. Все смешалось.
Я сидел на рябине, выдумывал страшные картины.
– Женька, втянув подбородок, говорит ей басом: «Любовь – физиологическое чувство, и надо смотреть просто. Я мужчина, и беру женщину, как добычу!» Она говорит спокойно: «Да, я очень легко смотрю на это!…» И быстро идут куда-то.
То представлялось, что они в Нескучном. Она смеется: «Вы совсем мальчишка, усы не выросли!» Он стискивает ей руку по-английски и говорит мрачно: «А компас показывал на Север!» Она говорит в восторге: «Боже, какой вы сильный!» Но что-то ее держит. Она так еще молода, чиста! Тогда он ломает жимолость, – жимолости там много! – и с резким свистом ударяет по нежной ручке. Кровавый рубец остается на белой коже. «Ах!» – вскрикивает она покорно. Он жарко шепчет: «Ты будешь моей, или… я пущу себе пулю в лоб!» Она глядит на него долгим взглядом, подносит к своим губам истерзанную руку и запечатлевает на ней покорный и благодарный поцелуй. И нежно шепчет: «Для тебя… я на все готова!» И, обманутая его игрой, чувствуя овладевшую ею слабость, опирается на его стальную руку, и он жадно влечет ее…
Я скатился с рябины и стал крутиться по садику.
«Господи, он обесчестит чистую девушку, чтобы тотчас швырнуть, как старую перчатку! Он лишит ее этой недосягаемой чистоты, светлую мою грезу, неуловимо-прекрасную мечту!…»
Неуловима, как зарница,
Игрива, как лесной ручей,
Скажи мне, чудная певица,
Царевна солнечных лучей!
Образ лучезарной Зинаиды и других девушек, неосязаемых женских лиц, соединившихся для меня в одну, – замазывался грязью.
«Но есть же она где-то, есть же?! – спрашивал я себя. – Когда-нибудь я ее найду же? Ведь на самом же деле была она, не сочинил же ее Тургенев, Эмар, Вальтер Скотт?! Сколько на свете прекрасных незнакомок, чистых, как Богородица, девушек, которые не поддаются преступному обману, не торгуют святой любовью?! Есть, непременно есть! Даже Демон у Лермонтова пел Тамаре: „Я дам тебе все-все земное, люби меня!“ Даже Демон не мог купить Тамару, и она вырвалась из его объятий. Ангелы унесли ее душу в небо».
Я перебирал оперы, где героиня боролась с искушеньем. Фауст овладел Маргаритой, но там были чары цветов, которые заклял Мефистофель, чтобы одурманить сердце Маргариты. И всегда побеждала чистота! И вот, на глазах, теперь Женька, как Мефистофель, посмеиваясь, басит жирно – ха-ха-ха… нашептывает в ее розовое ушко пошлости, а она… Ужасно!
И вдруг:
– Маловато погуляли, Серафима Константиновна!… – услыхал я радостный возглас Кариха…
Я бросился к забору.
– Как я вас обманула!… ха-ха-ха… – рассыпался серебри стый смех. – Ходила за пирожным, гости будут. – Дело хорошее. Я тоже иной раз гостей принимаю, попировать. Приятного аппетиту!
Я застал только синюю ее юбку и щепную коробочку с пирожным. Быстро-быстро вбегала она на галерею. Она не ходила на свиданье, она все та же!
Идя из сада, я столкнулся в сенях со Сметкиным. Он проскочил так быстро, словно гнались собаки. Мне мелькнуло: шептался с Пашей! А он, уже со двора, крикнул:
– «Листок» хотел попросить, про «Чуркина»-с!
Когда я вошел в переднюю, Паша метнулась ко мне из коридора. Она быстро облизывала губы и тараторила:
– А я за вами идти хотела, надоел Мишка, «Листочка» просит! Говорит, страшно написано, опять Чуркин убьет кого-то! А вы не сердитесь? Не сердитесь, чего надулись? А я все про вас мечталась… – сказала она тише. – Стишки все вспоминала…
«Нет, она не шепталась с Мишкой!» – подумал я.
– И с чего вы взяли… с Мишкой! – шептала она, облизывая губы. – Ндравлюсь я ему, сватать меня хотел, а… паршивый он! – уткнулась она в руки, словно ей стыдно было. – А я… хорошенького люблю, мальчика одного!…
И побежала-запрыгала по коридору. Я так и замер.
«Хорошенького люблю, мальчика одного!…» А если она нарочно, чтобы я не думал, что она с ним шепталась? Женщины очень лживы… Есть даже песня:
Ты мне лгала и обещалась,
Сама другому предалась!
Любви все тайны сокровенны,
Предав, ты с ложью обнялась!
Я нашел «Листок», вышел в столовую. Гадала на картах тетка.
_ Сейчас на тебя раскинула… могила тебе вышла! – сказала она язвительно.
– Мо-гила?!. какая могила?… – не понял я.
– Не совсем могила, а крест будет. Значит, провалишься! – Сами вы провалитесь! Всем только гадости говорите!
Засиделись в девушках, потому и злитесь! – истерзанно крикнул я.
– А ты… пащенок! Матери дома нет, так ты зубастишься с теткой, наглец ты эдакий!