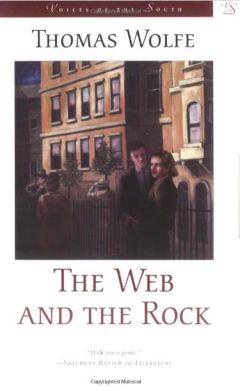Дождь капал с крыши, с ветвей, из водосточной трубы, и Джордж, прислушиваясь к нему, думал обо всех влажно блестящих постройках на Ярмарке: внутри объедающиеся, пьющие, раскачивающиеся толпы, красные лица блестят в нагретом телами, насыщенном испарениями и дымом воздухе; снаружи месиво грязи, она должна быть на всех дорогах и тропинках, исхоженных, истоптанных многими тысячами ног. Где-то с торжественной, завершающей благозвучностью часы отбили свою меру неумолимого времени, дождь, сквозь который долетел этот звук, придал содержащейся в нем вести фантасмагорический смысл. Звук этот поведал Джорджу, что для всех живущих истек еще один час, что все они на час приблизились к смерти; и послужило ли тому причиной молчаливое присутствие лежавшей вокруг древней, вечной земли — древней земли, что лежала в темноте и теперь, словно живое существо, спокойно, упорно, неустанно пила падающий на нее дождь, — он не знал, но ему внезапно представилось, что вся жизнь человеческая подобна маленькому языку земли, погруженному в воды времени, и что беспрестанно, непрерывно в темноте, в ночи этот язычок распадается в потоке, постепенно растворяется в темных водах.
Джордж лежал, глядя в потолок. Дверь беззвучно отворилась, и монахиня в одеянии медсестры, безупречно белом халате и шляпке с огромными накрахмаленными белыми крыльями, вошла взглянуть на него. Ее маленькое белое лицо, тесно обрамленное головным убором, символизирующим благочестие, выглядывало из этой тюрьмы с потрясающей, почти непристойной обнаженностью. В тусклом свете лампы под абажуром монахиня входила и выходила так бесшумно, что казалась Джорджу привидением, и он почему-то испытывал перед ней страх.
Но теперь он посмотрел на монахиню и увидел, что лицо у нее открытое, изящное; это было приятное лицо, но для мужчин в нем не было ни нежности, ни страсти, ни любви. Ее сердце, ее любовь были отданы Богу и пребывали среди блаженных на небесах. Жизнь в этом мире она проводила тенью, изгнанницей; кровь раненых, муки страдающих, слезы горя, страх смерти оставляли ее равнодушной. Она не могла скорбеть, подобно ему, о смерти людей, ибо то, что для него было смертью, для нее было жизнью; что для него было концом надежды, радости, счастья, для нее являлось только началом.
Монахиня положила прохладную руку ему на лоб, произнесла несколько слов, которых он не расслышал, и покинула его.
Когда Джордж оказался в клинике, Geheimrat[36] Беккер осмотрел голову и обнаружил на черепе слева две раны. Они были дюйма по полтора длиной и пересекались буквой X.
Herr Geheimrat велел своему ассистенту сбрить волосы вокруг ран, что и было сделано. Поэтому Джордж остался с гривой густых волос и нелепой, величиной с блюдце лысиной сбоку черепа.
Сперва, когда жестокие пальцы Беккера зондировали, нажимали, обтирали, Джорджу казалось, что под густыми волосами на затылке есть еще ранка, которой доктор не заметил. Но репутация этого человека была столь высока, манеры так властны, а речь, когда Джордж заикнулся об этом, до того груба и презрительна, что Джордж прикусил язык, уступив его авторитету и знакомому нам всем желанию попытаться избежать проблем, отмахнувшись от них.
На Ярмарке он не подвергался никакой опасности. Страхи его были призраками мрачного воображения, теперь ему это было понятно. Кровотечение у него было обильным, крови потерял он много, но раны уже заживали. Волосы со временем должны были отрасти, закрыть шрамы на выбритой части черепа, и единственным заметным последствием травм могли остаться только легкая кривизна перебитого носа и шрамик от ножа на его мясистом кончике.
Поэтому ночами теперь ему оставалось только лежать, ждать и глядеть в потолок.
В палате были четыре белые стены, койка, тумбочка, лампа, туалетный столик и стул. Стены были высокими, квадратными, потолок тоже был белым, словно пробел времени и памяти, и все блистало чистотой. Ночами, когда светила только лампа возле койки, высокие белые стены и потолок лишались своей яркости, их заливала, тускнила тень темного абажура. И это гармонировало с ожиданием и шумом дождя.
Над дверью висело распятие с мучительно скрюченными пальцами, косо приколоченными ступнями, искривленными бедрами, выступающими ребрами, изможденным лицом и смиренным страданием Христа. Это изображение, столь жестокое в сочувствии, столь изможденное, искривленное, смиренное в этом парадоксе сурового милосердия, этот роковой образец страдания был до того чужд Пайн-Року, Джойнерам, баптизму, всем знакомым ему распятиям, что наполнял Джорджа чувством непривычности и смущенного благоговения.
Потом в этой вечности унылого ожидания наступил беспокойный перерыв. Джордж ворочался на жестких простынях, взбивал подушку, раздраженно поправлял одеяло, клял неудобство покатого матраца, из-за которого верхняя часть его тела постоянно находилась в приподнятом положении. Провел пальцами по бинтам на выбритой части головы, ощутил бугорки струпьев и, бранясь, сунул руку под повязку, туда, где оставались волосы, к дергающей боли той раны, которую не обнаружили; и внезапно вскипев слепой, безрассудной яростью, поднялся, решительно подошел к двери и громко закричал в тишину сонного коридора:
— Иоганн!.. Иоганн! Иоганн!
Тот появился и пошел к пациенту по ковровой дорожке окрашенного в зеленый цвет коридора, сильно прихрамывая. Хромота его тоже привела Джорджа в ярость, потому что Беккер хромал на ту же ногу; на войне Иоганн был денщиком Беккера, оба получили ранения и оба хромали одинаково. «Они все хромают?» — подумал Джордж, и эта мысль привела его в бешенство.
— Иоганн.
Тот подошел, хромая. Лицо его, широкое, полное, толстоносое, неприглядное, было исполнено протеста, увещевания и недоуменного беспокойства.
— Was ist?[37]
— Verbindung.[38]
— Ах! — Он посмотрел и укоризненно сказал: — Вы ее сдвигали!
— Но я verletrt[39] еще в одном месте! Посмотрите! Скажите Беккеру, что он не заметил одной раны!
И приставил к ней палец, указывая.
Иоганн пощупал; потом рассмеялся и покачал головой:
— Nein, это всего-навсего Verbindung!
— Говорю вам, я verletrt! — выкрикнул Джордж.
Торопливо простучав каблуками по зеленому ночному коридору, вошла ночная Мать Настоятельница, ее открытое лицо утопало между огромными накрахмаленными крыльями шляпки.
— Was ist?
Джордж, немного смягчась, указал:
— Здесь.
— Там ничего нет, — сказал ей Иоганн. — Его беспокоит повязка, а он думает, что там рана.
Монахиня коснулась легкими пальцами указанного места.
— Рана, — сказала она.
— Nein! — воскликнул изумленный Иоганн. — Но Herr Geheimrat говорил…
— Там рана, — сказала монахиня.
О, как приятно это подтверждение, словно предвестие близкой победы — знать, что этот доктор-мясник один раз ошибся! Этот хам с презрительной речью, этот грубиян с кабаньей шеей и пальцами мясника — ошибся! — ошибся! Ей-богу! — раны, шрамы, повязки — для него все едино! Хромой мясник с жестокими пальцами один раз в своей треклятой мясницкой жизни — ошибся!
— Verletrt, ja!.. И у меня жар! — злорадно сказал Джордж.
Монахиня приложила легкий, прохладный палец к его лбу; и спокойно сказала:
— Nein Fieber![40]
— Fieber? — обратил к ней широкое, недоуменное лицо Иоганн.
Монахиня со строгим, как всегда, лицом ответила спокойно, серьезно, безжалостно:
— Nein Fieber. Nein.
— Говорю вам, жар есть! — воскликнул Джордж. — А Geheimrat — сдавленно: — Да! Великий Geheimrat Беккер…
Монахиня сурово, негромко, со строгим упреком произнесла:
— Herr Geheimrat!
— Ладно, Herr Geheimrat! — не смог ее обнаружить!
Сурово, спокойно:
— Жара у вас нет. А теперь возвращайтесь в постель!
Монахиня вышла.
— A Geheimrat! — повысил голос Джордж.
Иоганн твердо посмотрел на него. Его некрасивое немецкое лицо застыло в спокойном выражении протеста против нарушения приличий.
— Прошу вас, — сказал он. — Люди спят.
— Но Geheimrat…
— Herr Geheimrat, — спокойно и подчеркнуто, — Herr Geheimrat тоже спит!
— Иоганн, так разбудите его! Скажите ему, что у меня жар! Он должен прийти! — и внезапно задрожав от гнева и оскорбленности, Джордж закричал в коридор: Geheimrat Беккер… Беккер! Где Беккер!.. Мне нужно Беккера!.. Geheimrat Беккер — о, Geheimrat Беккер, — насмешливо, — великий Geheimrat Беккер — вы здесь?
Возмущенный нарушением приличий Иоганн схватил Джорджа за руку и прошептал:
— Тише!.. С ума сошли?.. Herr Geheimrat Беккер не здесь!
— Не здесь? — Джордж изумленно уставился в широкое лицо.
— Не здесь?
— Нет, — безжалостно, — не здесь.
Не здесь! — хромой мясник не здесь! — не на своей бойне! Бритый мясник с покрытым шрамами лицом, выбритой головой, морщинистой шеей — не здесь! — где ему положено находиться, хромать по коридорам, зондировать толстыми пальцами раны — на своей бойне, мясник не здесь!