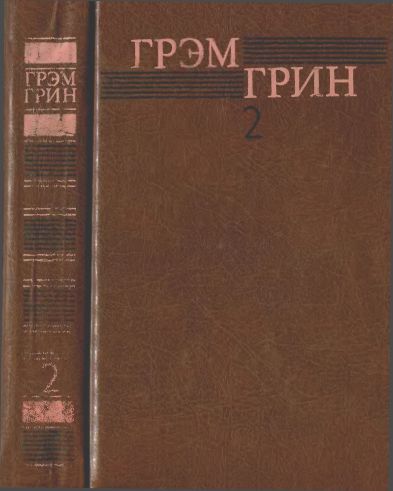врагов. У них тоже есть доводы.
— Есть и у них?
— Неразумные. Ну, разумные на первый взгляд. Обманчивые.
Он испуганно смотрел на меня. Он думал, наверное, не из тех ли я, кто уходит, и нервно сказал:
— Часок в неделю. Это вам очень поможет, — а я подумала: «Я же теперь совершенно свободна. Могу пойти в кино, могу взять книгу, только я не читаю и не помню фильмов. Я слепа и глуха от горя. Сегодня я ненадолго забыла и горе, и себя».
— Да, приду. Спасибо, что уделили мне время, — сказала я, отдавая ему всю надежду, моля Бога, от которого он обещал меня вылечить: «Дай мне ему помочь!»
2 октября 1945
Сегодня было очень жарко, накрапывал дождь, и я зашла в темную церковь на углу Парк-роуд, немножко посидеть. Генри был дома, я не хотела его видеть. Я стараюсь быть доброй за завтраком, и за обедом, если он дома, а иногда я все-таки забываю, он один добрый. Двое должны не обижать друг друга всю жизнь… Когда я вошла и присела, и огляделась, я увидела, что церковь — католическая, всюду эти жуткие статуи, реалистические какие-то. Я просто смотреть не могла и на них, и на распятие, опять человеческое тело, а я хочу бежать от него и от всего, что ему нужно. Я думала, что могла бы поверить в такого Бога, который никак с нами не связан, расплывчатого, неопределенного, космического, — я Ему что-то обещала, Он дал мне что-то взамен, словно пар ворвался на минуту в нашу жизнь, в наши комнаты, где стоят столы и стулья. Когда-нибудь и я стану таким вот паром, уйду в него от себя. А тут, в темной церкви на Парк-роуд, столько всяких дел, на всех алтарях — жуткие гипсовые статуи со сладкими лицами, и я вспомнила, что христиане верят в воскресение плоти, той плоти, которую я хотела навеки уничтожить. Я столько портила ее, как же мне хотеть, чтобы она сохранилась в вечности, — и тут я вспомнила слова Ричарда о том, что мы выдумываем доктрины, чтоб удовлетворить свои желания, и удивилась, насколько же он неправ. Если бы доктрину выдумывала я, я бы выдумала, что тело не воскреснет, что оно сгниет, как прошлогодняя падаль. Странно, как наш ум качается туда-сюда, от крайности к крайности. Может быть, истина в какой-то точке, через которую маятник пролетает, — не там, где он уныло висит, как флаг без ветра, а к краю поближе? Если бы маятник чудом остановился под углом в 60 градусов, я бы поверила, что истина — здесь. Сегодня маятник не останавливался, и я думала о теле Мориса, не о своем. Я думала о морщинках, которые жизнь прорезала на его лице, таких же неповторимых, как его почерк. Думала о шраме на плече, которого бы не было, если бы он не защитил другое тело от падающей стены. Он не говорил мне, почему лежал три дня в больнице, Генри сказал. Этот шрам — часть его характера, как ревность. Я подумала: хочу я, чтобы это тело обратилось в пар? (мое — да, конечно, а это?) — и поняла, что шрам должен быть всю вечность. Хорошо, а мой пар сможет его любить? Тут я стала жалеть и свое тело, но только за то, что оно может любить шрам. Неужели любит душа, — и все, ничто больше? Любовь — всегда и везде, даже ногти любят, даже платье, одежда, один рукав чувствует другой.
«Ричард прав, — подумала я, — мы выдумали воскресение, потому что тела нам нужны», — и как только я решила, что это сказка, которой мы друг друга утешали, статуи совершенно перестали меня раздражать. Они были как плохие картинки к Андерсену, как плохие стихи, кому-то ведь надо их писать, и он не так горд, чтобы их прятать. Я обошла церковь, разглядывая их. Перед самой ужасной — не знаю, ктó же это, — молился пожилой человек. Рядом стояла шляпа, а в ней лежал сельдерей, завернутый в газету.
Конечно, было оно и над алтарем, такое знакомое. Я знала его лучше, чем тело Мориса, но никогда не думала, что это ведь — тело, у него есть все, даже то, что прикрыто. Я вспомнила распятие в одной испанской церкви, мы там были с Генри. Красная краска шла от глаз и от рук, меня затошнило. Генри хотел, чтобы я восхитилась колоннами XII века, но меня тошнило, я вышла поскорей на воздух. Я думала: «Как они любят жестокость!» Пар не испугает кровью и криками.
На площади я сказала Генри:
— Видеть не могу эти нарисованные раны.
Генри ответил разумно, он всегда разумен:
— Конечно, вера у них материалистическая. Сплошная магия…
— Разве магия — это материализм? — спросила я.
— Да. «Глаз тритона, лапка жабы, палец мертвого младенца» {81}. Куда уж материальней! Они верят, что во время мессы хлеб превращается в тело.
Я и сама знала, но думала, что этого, собственно, уже нет после Реформации, только бедные в это верят. Генри поправил меня (как часто он приводил в порядок мои запутанные мысли!).
— Нет, не одни бедные, — сказал он. — Умнейшие люди верили в это — Паскаль, Ньюмен {82}. Такие тонкие во всем, такие суеверные в этом. Когда-нибудь мы узнаем, в чем тут дело. Возможно, что-то эндокринное.
И вот я смотрела на материальное тело, на материальный крест, думая, как же распяли пар. Конечно, пару не больно, ему и хорошо не бывает. Я просто из суеверия решила, что он может ответить на молитву. «Господи, дорогой», — сказала я, а надо бы: «Дорогой пар». Я говорила, что его ненавижу, а можно ли пар ненавидеть? Можно ненавидеть такое тело на кресте, оно требует благодарности — «Вот что Я вынес за тебя», — но пар… А Ричард и в пар не верит. Он ненавидит басню, борется с басней, принял ее всерьез. Я не могла бы ненавидеть Ганса и Гретель или их сахарный домик, как он ненавидит миф о небесах. В детстве я не любила злую королеву из «Белоснежки», но он ведь не беса ненавидит. Да, бесов нет, если нет Бога, но он-то ненавидит добрую сказку, а не злую. Почему? Я подняла глаза на слишком знакомое тело, искривленное выдуманной болью. Голова у него упала, как у спящего. Я подумала: «Иногда я ненавидела Мориса, но я бы и ненавидеть не могла, если бы я его не любила. Господи, если я Тебя ненавижу, чтó это значит?»
«Может быть, — думала я, — я и сама материалистка? Может, и у меня