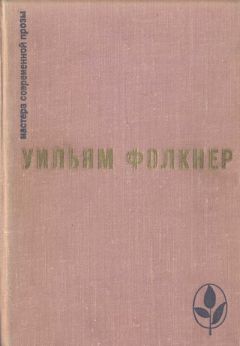— Тогда они убьют нас всех, — сказала Марта. — Если он умрет, мы все умрем.
— Это им, во всяком случае, надолго запомнится.
— Machismo! — сказал доктор Пларр. — Опять ваш проклятый дурацкий machismo. Леон, я должен что-то сделать для бедняги, который там лежит. Если я поговорю с Пересом…
— Что ты можешь ему предложить?
— Если он согласится продлить свой срок, вы согласитесь продлить ваш?
— Что это даст?
— Он все же британский консул. Британское правительство…
— Всего лишь почетный консул, Эдуардо. Ты сам не раз нам это объяснял.
— Но ты согласишься, если Перес…
— Да, соглашусь, но не думаю, чтобы Перес… Может, он не даст тебе даже рта раскрыть.
— Я думаю, даст. Мы с ним были приятелями.
На память доктору Пларру пришел речной плес, бескрайний лес до горизонта и Перес, решительно шагающий с одного мокрого бревна на другое навстречу группке людей, где его ждал убийца. Это мои люди, сказал тогда Перес.
— Для полицейского Перес не такой уж плохой человек.
— Я боюсь за тебя, Эдуардо.
— Доктор тоже страдает machismo, — сказал Акуино. — Давай… выходи и разговаривай… но захвати с собой револьвер.
— Я страдаю не machismo. Ты сказал правду, Леон. Я и в самом деле ревную. Ревную к Чарли Фортнуму.
— Если человек ревнует, — сказал Акуино, — он убивает соперника или тот убивает его. Ревность — штука простая.
— Моя ревность другого сорта.
— Какая еще может быть ревность? Ты спишь с чужой женой. А когда он делает то же самое со своей…
— Он ее любит… вот в чем беда.
— У вас осталось пять минут, — объявил громкоговоритель.
— Я ревную, потому что он ее любит. Такое глупое, избитое слово — любовь. Для меня оно никогда не имело смысла. Как и слово бог. Я знаю, как спят с женщиной, я не знаю, как любят. Жалкий пьянчужка Чарли Фортнум победил меня в этой игре.
— Любовницу так легко не уступают, — сказал Акуино. — Их не так-то просто приобрести.
— Клару? — Доктор Пларр засмеялся. — Я расплатился с ней солнечными очками. — Воспоминания продолжали преследовать его. Они были как надоедливые препятствия, как бутылки в игре, которые требовалось обойти с завязанными глазами по дороге к двери. Он пробормотал: — Она что-то у меня спросила перед тем, как я ушел из дома… А я не стал слушать…
— Постой, Эдуардо. Пересу нельзя доверять…
Когда доктор Пларр открыл дверь, его на миг ослепил солнечный свет, а потом мир снова приобрел резкие очертания. Перед ним шагов на двадцать тянулась жидкая грязь. Индеец Мигель валялся, как тюк выброшенного тряпья, насквозь промокшего от ночного дождя. Сразу за ним начинались деревья и густая тень.
Вокруг не было никаких признаков жизни. Полиция, как видно, выселила людей из соседних хижин. Шагах в тридцати среди деревьев что-то блеснуло. Возможно, это луч солнца отразился на лезвии штыка, но когда Пларр немного приблизился и вгляделся внимательнее, он увидел, что это просто кусок жестяного бака из-под горючего, который был вделан в стену хижины, спрятанной среди деревьев. Вдалеке залаяла собака.
Доктор Пларр продолжал медленно, нерешительно двигаться вперед. Никто не шевельнулся, никто не заговорил, не раздалось ни единого выстрела. Он поднял руки чуть выше пояса, как фокусник, который хочет показать, что в них ничего нет. И позвал:
— Перес! Полковник Перес!
Он чувствовал себя дурак дураком. В конце концов, опасности не было и в помине. Они преувеличили серьезность положения. Ему было гораздо страшнее в тот раз, когда он прыгал за Пересом с бревна на бревно.
Он не услышал выстрела — пуля ударила его сзади в правую ногу — и рухнул ничком, словно ему подставили подножку при игре в регби; голова его была всего в нескольких шагах от тени, которую отбрасывали деревья. Боли он не почувствовал, и, хотя ненадолго потерял сознание, ему было так спокойно, будто он заснул в жаркий день над книгой.
Когда он снова открыл глаза, тень от деревьев почти не сдвинулась. Его сморил сон. Захотелось заползти под деревья и снова заснуть. Утреннее солнце палило. Он смутно помнил, что с кем-то что-то должен обсудить, но это могло подождать, пока он поспит. Слава богу, подумал он, я один. Он слишком устал, чтобы заниматься любовью, да и погода для этого чересчур жаркая. А он забыл задернуть шторы.
За спиной он услышал чье-то дыхание, но не мог понять, откуда оно взялось. Чей-то голос шепнул:
— Эдуардо…
Сперва он не узнал голоса, но, когда его снова окликнули, Пларр громко спросил:
— Леон?
Непонятно, что тут делает Леон. Пларр хотел повернуться, но нога одеревенела и не дала ему этого сделать.
Голос произнес:
— Кажется, они попали мне в живот.
Доктор Пларр вздрогнул и сразу очнулся. Деревья перед ним были деревьями квартала бедноты. Солнце жгло ему голову, потому что он не успел до них добраться. Он понимал, что только там был бы в безопасности.
Голос — он уже понял, что это голос Леона, — произнес:
— Я услышал выстрел. И не мог не прийти.
Доктор Пларр снова попробовал повернуться, но у него опять ничего не вышло, и он отказался от этой попытки.
Голос за спиной спросил:
— Ты серьезно ранен?
— Не думаю. А ты?
— Ну, я уже в безопасности.
— В безопасности?
— В полной безопасности. Не смогу убить даже мухи.
— Нам надо отвезти тебя в больницу, — сказал доктор Пларр.
— Ты был прав, Эдуардо, — произнес голос. — Какой из меня убийца?
— Не понимаю, что произошло… Мне надо поговорить с Пересом… А тебе здесь нечего делать, Леон. Ты должен был ждать вместе с остальными.
— Я подумал — а что, если я тебе нужен?
— Зачем? Для чего?
Наступило долгое молчание, пока доктор Пларр не задал довольно нелепый вопрос:
— Ты еще здесь?
В ответ послышался невнятный шепот.
— Не слышу! — сказал доктор Пларр.
Голос произнес что-то похожее на слово «отец». Во всем, что с ними происходило, явно не было никакого смысла.
— Лежи спокойно, — сказал доктор Пларр. — Если увидят, что кто-то из нас шевельнулся, могут выстрелить опять. И лучше не разговаривай.
— Я сожалею… Прости…
— Ego te absolve [261], — прошептал доктор Пларр вдруг всплывшие в памяти слова.
Он хотел рассмеяться, показать Леону, что шутит — мальчиками они часто подшучивали над ничего не значившими формулами, которые заставляли их заучивать священники, — но он слишком устал, и смех застрял у него в горле.
Из тени вышли три парашютиста. В своих маскировочных костюмах они были похожи на ходячие деревья. Автоматы они держали наготове. Двое направились к хижине. Третий подошел к доктору Пларру, который лежал не шевелясь и затаив дыхание — оно уже прерывалось.
На кладбище было много людей, которых Чарли Фортнум раньше и в глаза не видел. Женщина в длинном старомодном черном платье была, очевидно, сеньорой Пларр. Она цепко держала за руку тощего священника, его темно-карие глаза шныряли туда-сюда, налево-направо, словно он боялся упустить важного прихожанина. Чарли Фортнум слышал, как эта дама не раз его представляла: «Мой друг, отец Гальвао из Рио». Две другие дамы на краю могилы демонстративно вытирали слезы. Можно было подумать, что они служат плакальщицами в похоронном бюро. Обе не заговаривали с сеньорой Пларр, как, впрочем, и друг с другом, но этого мог требовать профессиональный этикет. После мессы в соборе они по очереди подошли к Чарли Фортнуму и представились.
— Вы сеньор Фортнум, консул? Мы были такими друзьями с бедным Эдуардо. Это мой муж, сеньор Эскобар.
— Я сеньора Вальехо. Муж не сумел прийти, но я не могла не проводить Эдуардо, поэтому пришла со своим другом, сеньором Дюраном. Мигель, это сеньор Фортнум, британский консул, которого те негодяи…
При имени Мигель в памяти у Чарли Фортнума сразу же возник индеец, сидевший на корточках у двери хижины и с улыбкой чистивший автомат, а потом — тюк промокшего под дождем тряпья, мимо которого парашютисты пронесли его на носилках. Его рука свесилась с носилок и коснулась мокрой материи. Он начал было:
— Позвольте представить вам мою жену…
Но сеньора Вальехо и ее друг уже прошли мимо. Она прижимала развернутый платок к глазам — он выглядел чем-то вроде паранджи — до следующего светского выхода. Клара по крайней мере не изображает горя, подумал Чарли Фортнум. Это хотя бы честно.
Похороны, думал он, похожи на те дипломатические коктейли, на которых он присутствовал в Буэнос-Айресе. Их устраивали по случаю отъезда британского посла. Дело было вскоре после его назначения почетным консулом, и к нему еще проявляли некий интерес, поскольку он возил на пикник среди развалин членов королевской фамилии. Люди хотели знать, о чем говорили высокопоставленные гости. Теперь прием с теми, кого он видел в соборе, происходил на открытом воздухе, на кладбище.