На горке, за дубом, где висел жестяной стертый крест, стоял на коленях нищий с седой лохматой головой и молился. Над крестом, на голой ветке, сидела черная ворона с распластанными крыльями. Она громко каркала, заглушая тихую молитву старика, будто недоброй вестью будила нечистую силу в старом лесу.
На ее карканье со всех сторон отзывались другие вороны, слышался шум крыльев, и в какой-то миг целая стая птиц треугольником опустилась посреди дороги, напоминая издали большое черное крыло.
От крика Мартын очнулся, погнал лошадей, кнутом разогнал ворон и со злостью сплюнул:
— Проклятые души!
Опять стало тихо. Дорога тянулась в гору, потом под гору, а потом снова в гору. Мордхе хотелось думать о Рохеле, о родителях, о Коцке, но он не мог, и от тоски, как ребенок, наметив самую дальнюю горку, начал высчитывать, сколько времени понадобится, чтобы бричка взобралась наверх. И чем ближе туда подъезжала бричка, тем меньше казалась горка, пока совсем не сровнялась с землей. Мордхе стало грустно, словно он потерял что-то. Он снова отыскал взглядом самую дальнюю горку и был уверен, что на этот раз он ее больше не потеряет из виду. Но скоро ему и это надоело. Он вертелся на сиденье и вдруг вздрогнул.
— Это птица! — успокоил его реб Иче.
Птица сорвалась с дерева и, как камень, упала на бричку. Мордхе резко опустил голову, будто желая избежать удара сверху.
Потом бричка выехала из лесу, и стало светлее. По обеим сторонам тянулись, словно цветные полотна, заросшие поля. Мартын потянулся, вынул табакерку, сделанную из коры, понюхал табаку и зачихал.
— Слава Богу, хороший урожай в этом году! — повернулся он к Мордхе и указал на поля. — Но ничего нельзя заранее знать, пан! Что было в прошлом году? За две недели до жатвы все выгорело. Боже сохрани, люди уже достаточно натерпелись от голода.
Полосы высокой ржи радовали глаз, точно складками изрезав поля; тугие колосья наклоняли желтые головки. Только что расцветшие колосья были опоясаны маленькими цветочками. Дул теплый, тихий ветер, колосья качались, набегали на песчаные поля, как море, и несли с собой запах свежего хлеба. Запах стоял над полями, как облако пыли; першило в горле. Гречиха цвела белым цветом, словно осыпанная снежинками. Над колосьями в воздухе висела птица, заливалась вовсю, и пение ее сливалось с тихим шелестом ржи.
То там, то сям вырастал посреди поля широкоплечий крестьянин; опершись о блестящую косу, вытирал полотняной рубахой вспотевшее лицо, надвигал на лоб широкую соломенную шляпу и всматривался в проезжающих.
Крестьянин кланялся, смотрел вслед незнакомым людям в бричке, будто посылал с ними привет в дальний город, видел, как они исчезают в облаке пыли, и, задумавшись, снова звенел косой.
Мартын свернул вправо. Колея шла в стороне от большой дороги, становилась шире, и чем больше они удалялись от селения, тем реже встречались поля, засеянные рожью. Все чаще попадались болота, покрытые густой травой, камышом и папоротником. И, насколько мог охватить глаз, тянулись черные от сырости луга, как стекло искрящиеся на солнце.
Стало вдруг так тихо, будто все вымерло, будто малейший звук поглощался сырым воздухом. Тоска лежала над широкими полями, глядела из-за единственного кривого дерева. Казалось, будто оно, искалеченное, увязло в болоте.
Из тростника поднялась дикая утка, повисла на минуту в воздухе, как бы что-то высматривая, и, хлопая крыльями, стала носиться над лугом.
По обеим сторонам поднимающейся в гору дороги стояли несколько лачужек, крытых соломой. Серая собака кинулась к бричке, полаяла немного и замолчала. Бледные несчастные дети с красными глазами, сидевшие посреди песчаной дороги вокруг уродца, голова у которого была величиной с большую тыкву, вскочили, бросили калеку и рассыпались во все стороны, как вспугнутые зверьки.
Мартын остановил бричку и крикнул калеке:
— Что ты сидишь, как курица на яйцах? Дай дорогу!
— Ты не видишь, дурак, что я проклят? — ответил урод глухим голосом, будто несущимся из-под земли. — Вот я сижу в горячем песке, грею ноги — мне становится легче…
Большая лохматая голова до половины была погружена в песок. Казалось, она выросла из земли, соединившись с ней пуповиной, всасывала в себя испарения стоячей воды, и все в ней будто взывало: «Смотри, я — проклятие этих болот!»
Реб Иче сошел с брички, положил руки на голову калеке:
— Ты давно болен?
Разбежавшиеся было дети постепенно собрались снова, стали смелее и уже сами отвечали вместо бедняги:
— Он таким родился!
— Старая ведьма краевская, которая живет на болотах, она его прокляла!
— Она колдунья!
— Его сестра тоже каркает, как ворона!
Урод раскрыл рот, усмехнулся круглым, как луна, лицом, словно его радовало, что все им интересуются, и вдруг схватил одного ребенка за ногу, высунул язык и захохотал.
Реб Иче подозвал Мордхе, оба подняли несчастного мальчика, отвели его в сторону, а когда бричка проехала, опять посадили в песок. Реб Иче дал больному медный пятак, погладил его по голове, пожелал, чтобы Бог исцелил его, и сел с Мордхе в бричку.
Мартын пустил лошадей рысью. Потом, повернувшись к своим пассажирам, указал им на избушку, которая стояла на маленькой лужайке среди болот и издали напоминала развалившийся шалаш.
— Там она и живет!
— Кто? — спросил реб Иче.
— Краевская колдунья! Она живет вместе с чертом, пан! Пан мне не верит? Все это знают! Крестьяне видели, как она шла с чертом. Они сейчас же его узнали: он был худой и вертел хвостом, как обезьяна.
— А в костел она ходит? — спросил Мордхе.
— Пане, она даже никогда не заходит в ту деревню, где есть костел! Вообще, днем она редко выходит, зато ночью, пане, что там делается! Даже стыдно рассказывать! Она же прокляла всю эту местность! Нет ни одного дома на болотах, где бы родился ребенок без колтуна на голове.
— Почему же крестьяне не прогонят ее отсюда? — спросил опять Мордхе. — А?
Мартын не расслышал, повернулся, сплюнул и начал погонять лошадей.
Зайцы, сидевшие на траве у дороги, опустили приподнятые уши и, струхнув, пустились вскачь по полю.
Мордхе смотрел на дымящиеся луга, на ветхую избушку, видневшуюся посреди поля и как бы нарушавшую его покой, потом печально свесил голову, чувствуя, что его одолевает сон.
На рассвете они добрались до Праги, пригорода Варшавы, и заехали на постоялый двор. Он был полон подвод, бричек и карет. На подводах вповалку спали крестьяне. Вдоль стен, у корыт, на соломе лежали лошади, раздувая животы, как кузнечные мехи. Некоторые грызли корыта, вскидывали задние ноги, громко ржали. С потолка на длинной заржавленной цепи свисал фонарь, в котором коптила толстая сальная свечка, еле-еле освещая помещение. У ворот виднелся старый, обросший мхом колодец. Вода из него била через край. Черная дыра колодца издали была похожа на выбитый глаз.
Мартын распряг лошадей, напоил, задал им овса и пошел со своими пассажирами к хозяину. Хозяин обитал в большой квадратной комнате. Там, образуя угол, стояли две кровати, на которых обычно спали владельцы заезжего дома. На одной кровати теперь лежал старик с седой бородой, на второй — пожилая женщина в белом, опущенном на глаза ночном чепчике. У ее изголовья расположилась черная кошка. С кровати неслось странное ворчание. Трудно было сказать, от кого оно исходит: от женщины или от кошки.
На полу, не раздевшись, спали крестьяне. Высокая каменная печь занимала почти треть комнаты. В печи стоял большой железный котелок, охваченный пламенем. Стены были увешаны вилами, топорами, пилами и множеством кнутов разной величины. В углу, около полки с вычищенной медной посудой, висел на белом шнурке кусочек мацы. Стены, пол и кровати были облеплены мухами так, что казалось, они покрыты черным платком.
В комнате было душно, к тому же пахло дымом, и от махорки сильно першило в горле.
Скоро пришел владелец дома, осмотрел пассажиров, велел им положить вещи в большой деревянный сундук и указал пальцем на котелок, стоявший в печи:
— Вы, может, хотите стаканчик чаю?
Реб Иче не ответил и спросил у еврея:
— Далеко отсюда до синагоги?
— Недалеко, подождите минуту, — начал тот одеваться, — я тоже иду.
На улице было еще тихо. Но с другой стороны моста уже доносился отдаленный шум — это пробуждалась Варшава. Из переулка выехал арендатор с бидонами молока. Появились женщины, почти все в красных полосатых юбках, с незаколотыми, растрепанными волосами. Они, видно, только что встали с постели. Женщины напали на арендатора, словно рой пчел. Одни с кувшинчиками, другие с кастрюлями лезли на колеса, на воз, протягивали руки, кричали, шумели:
— Молока, сыра, масла!
Арендатор гнал от себя женщин, ругался, но его никто не слушал.
Высоченный, худой еврей бежал из синагоги, держа под мышкой мешок с талесом. По дороге он купил на лотке пучок лука и, видно, мечтал теперь о миске картофеля с щавелем, которую приготовит ему жена, о том, как он накрошит лук в сметану и наестся вволю.
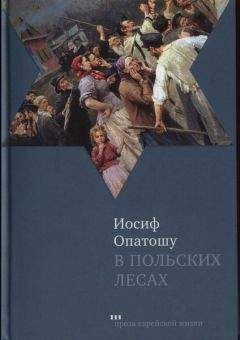


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

