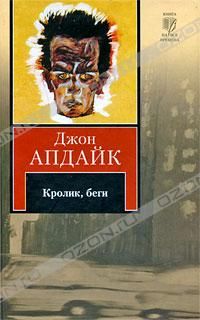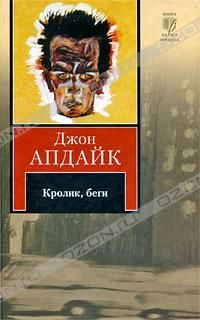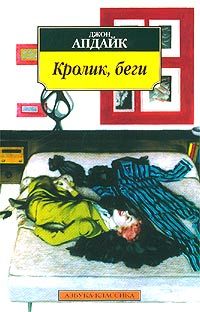— Ну вот я и пришла, — говорит она.
Ее дом кирпичный, как и все остальные на западной стороне улицы. Через дорогу, словно серая штора под фонарем, высится большая, выстроенная из известняка церковь. Они входят в подъезд под цветным оконцем. В вестибюле — ряд звонков под медными почтовыми ящиками, лакированная подставка для зонтов, резиновый коврик на мраморном полу и две двери: справа с матовым стеклом, прямо — с небьющимся проволочным стеклом, сквозь которое видна лестница, покрытая резиновыми дорожками. Рут вставляет в эту дверь ключ, а Кролик читает на второй двери позолоченную надпись: «Д-р Ф. — Кс. Пеллигрини».
— Старая лиса, — замечает Рут и ведет его по лестнице наверх.
Она живет этажом выше. Ее дверь в дальнем конце покрытого линолеумом коридора, ближе к улице. Пока Рут скребет ключом в замке, он стоит у нее за спиной. В холодном свете уличного фонаря, проникающем сквозь четыре неровных стекла в окне, возле которого он стоит, — эти синие стекла на вид такие тонкие, что кажется, стоит к ним прикоснуться, как они тотчас же лопнут, — его неожиданно охватывает дрожь: сперва начинают дрожать ноги, потом кожа на боках. Наконец ключ поворачивается в замке, и дверь открывается.
Войдя в квартиру. Рут тянется к выключателю; Кролик, оттолкнув руку, поворачивает ее к себе и целует. Это какое-то безумие; он хочет ее раздавить; моторчик у него под ребрами удваивает и учетверяет это желание — давить, давить что есть силы; это не любовь, что взглядом скользит по коже, ни своей, ни ее кожи он не ощущает, ему хочется только вдавить ее сердце в свое, чтобы раз и навсегда ее утешить. Она вся сжимается. Податливая влажная подушечка губ, охотно принявших его поцелуй, твердеет и высыхает, и как только Рут удается откинуть голову и высвободить руку, она отталкивает ладонью его подбородок, словно желая выбросить его череп обратно в коридор. Пальцы ее скрючиваются, и длинный ноготь впивается в нежную кожу у него под глазом. Он отпускает ее. Чудом уцелевший глаз косит, шея начинает ныть.
— Убирайся, — говорит она. В свете, падающем из коридора, ее пухлое помятое лицо кажется уродливым.
— Перестань, — говорит он. — Я же хотел тебя приласкать.
В темноте он видит, что ей страшно; он чует этот страх в изгибе ее крупного тела, как язык чует кровь в полости из-под вырванного зуба. Самый воздух как бы велит ему стоять недвижимо; его душит беспричинный смех. Ее страх и его внутренняя уверенность очень уж не вяжутся друг с другом он-то ведь знает, что не причинит ей вреда.
— Приласкать? — говорит она. — Скорее задушить.
— Я так любил тебя весь вечер, — продолжает он. — Мне надо было вытеснить эту любовь из своего организма.
— Знаю я ваши организмы. Пшик — и все.
— Со мной так не будет, — обещает он.
— Пусть лучше будет. Я хочу, чтоб ты поскорее отсюда убрался.
— Не правда.
— Вы все воображаете себя замечательными любовниками.
— А я такой и есть. Я — замечательный любовник, — уверяет он и, гонимый волной алкоголя и возбуждения, словно в забытьи подается вперед.
Она отступает, но не настолько быстро, чтобы он не успел почувствовать, что каверна ее страха затянулась. В свете, проникающем с улицы, он видит, что они в маленькой комнате, обстановку которой составляют два кресла, диван-кровать и стол. Рут идет в соседнюю комнату, чуть побольше, с двуспальной кроватью. Штора наполовину опущена, и в низких лучах света каждый бугорок на покрывале отбрасывает тень.
— Ладно, заходи, — говорит она.
— Куда ты? — отзывается он, заметив, что она взялась за ручку двери.
— Сюда.
— Ты хочешь там раздеваться?
— Да.
— Не надо. Позволь мне раздеть тебя. Ну, пожалуйста.
Он так поглощен этой мыслью, что подходит и берет ее за руку. Она уклоняется от его прикосновения.
— Я смотрю, ты привык командовать.
— Пожалуйста, прошу тебя.
— Мне нужно в сортир! — говорит она уже с нескрываемым раздражением.
— Только возвращайся одетая.
— Мне нужно там еще кое-что сделать.
— Нет, не нужно. Я знаю, о чем ты. Терпеть не могу эти штуки.
— Тебе-то что, ты и не почувствуешь.
— Ноя ведь знаю! По мне, это как искусственные почки, что ли.
Рут смеется.
— А ты привереда!. Может, сам тогда примешь меры?
— Ну нет. Это я совсем не перевариваю.
— Слушай, я не знаю, что ты хочешь получить за свои пятнадцать долларов, а только я рисковать не желаю.
— В таком случае верни мне пятнадцать долларов.
Она пытается уйти, но теперь он крепко держит ее за руку.
— Ты так командуешь, словно мы муж и жена.
Его снова обдает прозрачной волной, и он еле слышно шепчет:
— Ну что ж, пожалуй. — Так стремительно, что она не успевает шевельнуть руками, висящими вдоль тела, он опускается на колени у ее ног и целует на пальце то место, где должно быть кольцо. Потом начинает расстегивать ремешки ее туфель. — И зачем только женщины ходят на высоких каблуках? спрашивает он и таким сильным рывком поднимает ей ногу, что она вынуждена схватить его за волосы, чтобы не упасть. — Неужели у тебя от них ноги не болят?
Он швыряет в соседнюю комнату одну туфлю с переплетенными ремешками, вслед за ней вторую. Ее ноги теперь твердо стоят на полу. Схватив ее за лодыжки, он начинает с силой растирать округлые толстые икры. Когда он нервничает, массаж действует на него успокаивающе.
— Ну ладно, — говорит Рут. Голос ее слегка напряжен — она боится упасть, потому что он всем своим весом пригвоздил ей ноги к полу. — Ложись в постель.
Он чует подвох.
— Не выйдет, — говорит он, распрямляясь. — Ты меня надуешь.
— Да нет же, что ты привязался, ты ведь ничего не заметишь.
— Еще как замечу. Знаешь, какой я чувствительный!
— Господи! Ну, хорошо, в сортир-то мне все равно надо.
— Давай валяй, это меня не трогает, — говорит он, удерживая дверь открытой.
Она усаживается по-женски чинно, спина прямая, подбородок втянут. Ноги повыше колен стреножены полоской трусиков, и Рут неподвижно ждет, замерев над вкрадчивым шелестом струи. Дома они с Дженис начали приучать Нельсона к унитазу, и вот сейчас, когда он стоит в дверях, опершись на косяк, такой большой и сильный — словом, папаша, — он вдруг чувствует, вот потеха, безотчетное желание сказать ей: «Вот молодец, вот умница». И какая опрятная — клочок лимонно-желтой туалетной бумаги ныряет вниз, под платье; она рывком встает, и на какую-то сладостную долю секунды перед ним открывается все сотканное из лоскутков беззащитное потаенное целое — чулки и резинки, и шелк и мех, и нежная плоть.
— Вот и умница, — говорит он и ведет ее в спальню.
За спиной у них возмущаются и воркуют водопроводные трубы. Завороженная его волей, она движется скованно и робко. Он тоже робеет. Дрожа всем телом, он подводит ее к кровати и начинает искать застежку платья. Нашарив на спине пуговицы, он не может сразу их расстегнуть, потому что берется за петли не с той стороны.
— Дай я сама.
— Не спеши, я расстегну. Ты должна радоваться. Ведь это наша брачная ночь.
— По-моему, ты просто спятил.
Он грубо поворачивает ее к себе, и его снова обуревает неуемное желание ее утешить. Он касается ее густо накрашенных щек, и когда он смотрит сверху на затененное сердитое лицо, она кажется ему совсем маленькой. Он ласково тянется к ее глазу, пытаясь внушить ей, что в эту ночь не надо торопиться. Рискуя вызвать смех своей бесстрастной осторожностью, он целует второй глаз, потом, возбужденный собственной нежностью, поддается страсти и так неистово покусывает и лижет ей лицо, что она и в самом деле смеется от удовольствия и отталкивает его. Он прижимает ее к себе, наклоняется и вдавливает зубы в мягкую горячую ложбинку у основания шеи. Ожидая укуса. Рут испуганно вздрагивает и упирается ему ладонями в плечи, но он не отпускает ее и, чуть не задушив в объятиях, кричит, что ему нужно не ее тело, а она, она вся. Хотя слов не слышно, Рут все понимает и говорит ему:
— Не старайся доказать, какой ты замечательный любовник. Делай свое дело и катись.
— Ишь ты какая умница.
Подняв руку, чтобы ее ударить, он сдерживается и предлагает:
— Ударь меня. Валяй. Тебе ведь очень хочется. Отколоти меня как следует.
— О Господи, эта канитель на всю ночь. — Он хватает ее вялую руку, нацеливает на себя, но она сгибает пальцы и легонько шлепает его по щеке. — Бедняжка Маргарет, точно так ей приходится ублажать этого старого подонка, твоего приятеля.
— Не говори о них, — умоляет он.
— Проклятые мужчины. Непременно хотят сделать больно или чтобы больно сделали им.
— Я вовсе этого не хочу. Ни того, ни другого. Честное слово.
— Кончай эту волынку! Раздевай меня, и давай ближе к делу.
— Ну и язычок у тебя, — вздыхает он.
— Мне очень жаль, если я тебя шокирую. — В голосе ее звучит металлическая нотка.