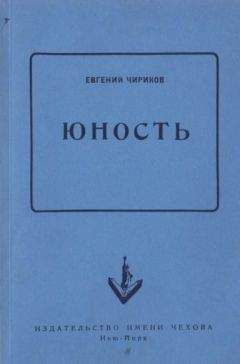— Больно! Больно! Опомнись!..
— Я могу убить тебя…
Вырвалась, рассердилась… На глазах слезы.
— Ты, пожалуй, захочешь бить меня, противный мальчишка!
Ушла в бор, а я упал на смятую траву и стал метаться, задыхаясь в тоске и бессильной злобе…
— Я убью тебя… убью!., убью!.. Господи, Господи, что мне делать? что делать?..
Не знаю, сколько прошло времени… Я плакал горячо и долго. Потом стих и только долго еще не мог остановить спазмы в горле и вздрагивал всем телом… И забылся в странном полусне: слышал пение птиц за окном, шум в бору, похожий на далекий морской прибой, слышал гудящую на стекле муху, но всё это было где-то далеко, непонятно, странно. Я плавал в волнах каких-то воспоминаний, прошлых, далеких и близких, и всё путалось: и радость, и горе, и смех, и слезы, и не знал я, счастлив или несчастлив я… Грезился смутно образ какой-то женщины, а, может быть, девушки, то светлый, то темный… беседка в палисаднике, столик, алгебра, золотая коса… беседка в саду, окно в гуще сирени, сидящая на крылечке печальная фигура матери… То склонялась надо мной белая, то черная, и одна плакала, а другая смеялась, и когда я протягивал губы к белой, она вдруг превращалась в черную. Отчего у тебя одна коса золотая, а другая — черная, как смола? Гудит пароход… Нет, это — муха… Смешно… Кто-то сильно толкнул избушку, какой-нибудь великан…
— Один?.. А где твоя краля-то?
— Ах, это ты, дедушка!
— Жареху принес: уточку… Пора обедать…
Я оглянулся и сразу вспомнил всё, что пережил, и прежде всего почувствовал, что нет Калерии…
— Не видал, дедушка, Калерии, моей Калерии?.. Ах, какой ты бестолковый!
— Не пойму слово-то…
— Жены, жены!..
— А-аа! Утром видел, как она в бор ушла… Неужели с тех пор не вернулась? Не заблудилась бы… Эко дело-то! Надо бы поискать, покричать… Кабы скоро дождичек не пошел: вся измокнет…
— Да, да, надо искать, надо искать… Пойду…
— Возьми рожок у меня. Поиграешь, его далеко в лесу слыхать… Ветерок подувать начал, грозы не надуло бы на ночь-то…
Забежал в землянку за рожком и с томящей тревогой в душе пошел в бор искать Калерию…
— Калерия!
Шумит, ворчит бор и бессильно бьется мой голос в стенах угрюмых сосен.
— Калерия!
Нет. Вот и памятная полянка, где мы ели землянику… Неужели это было только вчера? Да, вчера. А кажется, что это было давно-давно, когда не было тоски, а только одна радость, смех, счастье… Вот пучок забытых нами маргариток… Увяли. Так скоро…
— Калери-я!
Играю в рожок, прислушиваюсь. Нет. Ускоряю шаги, рвусь вперед, продираюсь сквозь чащу леса, царапаю лицо колючими иглами хвои. Бьется в тоске и тревоге сердце… Что это? Дождь? Да. Словно заговорщики зашептались кругом меня… Теперь не услышит уже: заглушает шум дождя и шум раскачивающихся вершин мой рожок… А, может-быть, она уже в избушке и с беспокойством ждет моего возвращения… Нет, она не беспокоится. Сидит и улыбается, а, может-быть, перечитывает свои старые любовные письма… и укладывает в желтый чемодан платья, кофточки, рубашечки с ленточками и бантиками… У нее нет сердца. Она жестокая… Она сжигает огнем своих глаз, но не любит.
— Калери-я!
Пропало солнце в тучах. Не знаю, в какой стороне наша избушка… Не разберешься в потемневшем лесу. Неприветливый он стал, безрадостный, враждебный… А дождь всё сильнее. И всё ворчливее старый бор. Я шел напрямик, кричал и вслушивался — и вдруг переменял направление… Напрасно не послушал старика: не надел охотничьей куртки. Рубаха уже мокрая, липнет к телу и холодит. Со шляпы прыгают крупные водяные капли… Нельзя закурить папиросы: вымокли спички… Начинало овладевать отчаяние. Словно я уже навсегда потерял мою милую жестокую Калерию… Мучай меня, как хочешь, а я всё-таки люблю тебя; в страданиях, которые ты даешь мне вместе с твоей любовью, бездна счастья…
— Калерия! Калерия! Калерия!..
Голодный, промокший до костей и дрожащий от холода, я бродил уже без надежды по лесу, не зная сам, куда иду: к дому или от дома. Вышел на какую-то дорогу. Бог ее знает, куда она приведет. Не знаю, сколько времени: темно уже… Притих дождик. Заиграл в рожок, потом закричал:
— Ка-ле-ри-я-я-ааа!
— А-уууууу!
Неужели она! Кажется, ее голос…
— Калери-яяяя!
— Гейняяяя!
Она, она!.. Нет сомнения… Вон она белеет на дороге… Дурочка, она, кажется, в одном своем кружевном матинэ… Так и есть!..
— Иду-уу!
А сам бегу, скользя по грязной и мокрой дороге, спотыкаясь, падаю… Хохочет… Да, заливается, словно случилось что-то очень смешное…
— Уф! Зачем ты так далеко…
— Ты виноват… Но на что мы оба похожи?.. Мокрые курицы!.. Не смотри на меня: я прямо неприлична… Всё прилипло… Бррр!.. Холодно и ужасно хочется кушать… Ам! — я съем тебя, поросенок…
И прошло всё сердце… Нельзя на нее сердиться… Ее можно только любить.
— Я тебя ищу очень давно уже…
— Ну и отлично: в другой раз будешь умнее…
— Ты хочешь, чтобы и в другой раз…
— Не со мной, так с той, которую ты будешь любить после меня…
— Погоди: кажется, кто-то едет…
— Мужик.
— Вот если бы он посадил нас!.. Ой, как холодно и как хочется кушать… Наймем его! У меня промокли волосы, ноги, всё, всё…
— Мужичок!
— Тпру! Что вы за люди?.. Отколь?..
— Православные! — с хохотом отвечает Калерия…
Ну, можно ли сердиться на эту женщину?.. Мужик недоверчиво оглядел Калерию:
— Хм… С усами… оба!.. Чисты сосульки… Ей-Богу! Садитесь уж…
— Нам надо к леснику.
— Эге, куда забрели… Это ведь в сторону. Я вас до дороги довезу, которая туда… А там еще с версту… Добежите уж… Лучше прогреетесь… Вишь, как девчонка-то дрожит! На-ка кафтан, прикройся!.. Только бы до грозы-то вам поспеть…
— А будет?
— Будет… Вон, с той стороны агромадная туча ползет… Нагоняет… Слышь: ворчит?..
— Да, слышу…
— Ну-ка, милая, до грозы-то поспеть бы!..
Мужик нахлестал лошадь, и она побежала галопом, подбрасывая высоко телегу. Мы с Калерией колотились друг о друга и радостно смеялись…
— Ой, душа выскочит, ой, ой, ой, тише!
А черная туча нагоняла. Всё ближе и громче ворчал гром, перекатываясь по лесу…
— Эх, Илья по небу прокатывается! — говорил мужик и, покрутив вожжами в воздухе, нахлестывал мохнатую лошаденку…
XVI
— Генёк! Зажги огонь и не смотри сюда, за печку, а я не буду смотреть туда… Будем переодеваться. Бррр! Холодно. А всё-таки хорошо! Я очень довольна этим приключением…
Хохочет там, за печкой. Подплясывает босыми ногами по полу и весело приговаривает:
— Холодно, Генёк, холодно; голодно, Генёк, голодно.
Вязко падает мокрое белье на пол, сухо шелестят свежие юбки, кофты… Я тоже тороплюсь принять благообразный вид. Ударил и покатился по лесу гром и строго заворчал старый бор. Близко гроза.
— Генёк! Закрой окно, а то молния залетит… А умирать не хочется еще…
Набежал сердитый ветер, рванул створку окна и разбил стекло.
Дедушка принес клокочущий паром самовар, и жарёху из утки, хлеба. Долго он ахал около разбитого стекла и ругал ветер. Вкусно пахло жарким и коркой свежеиспеченного черного хлеба…
— Ты готов?
— Да.
— Можно выходить?..
Появилась вся в черном, тонкая, хрупкая, похожая на молоденькую послушницу из монастыря. Волосы распущены, на голову наброшен черный платок, шаль не знаю, как назвать… Из-под шали лукавые глаза. Подошла, сбросила шаль и, наклонив голову, перебросила ловким движением все волосы на грудь… Стоит босая.
— Генёк! Заверни мои волосы в полотенце, свей жгутом и выжми, как делают женщины, полоская белье. Понимаешь?
— Понимаю.
Крепко, с непонятным раздражением, крутил я мокрые черные волосы, а она кричала:
— Будет! Больно!
Опять наклонила голову, встряхивает каскадом черных волн.
— Смотри: достают мои волосы до полу?
— Волос долог, — ухмыляясь, сказал дедушка.
— А ум, дедушка, короток. Да?
— А кто тебя знает!.. Вас ведь трудно разобрать-то… Всё, чай, умнее меня, старика… Всё-то ты смеешься… Веселая головушка!.. С тобой не соскучишься… Ну, я пойду домой… Заприте дверь-то: не раскрыло бы ветром ночью: хлопать будет… Всё глядел бы на ваше счастье!..
Я проводил старика, постоял на крылечке… Всё на душе как-то неспокойно и тоскливо… Словно потерял настоящую Калерию, а это — не она, другая… Послушал, как страшно шумит бор и как он скрипит под ветром сломанной сосною. Словно кто-то всё качает воду из журавельного колодца. Ну, опять дождь, крупный, торопливый… Под светом из окошка он кажется косым пучком прозрачных веревок. Вернулся. С тоской смотрю на Калерию, красивую, любимую и всё-таки чужую. Облокотился на руки, подпер ими щеки и смотрю в ее лицо: на душу набегает невыразимая грусть, похожая на грусть, рождаемую Бетховенскими сонатами… Грусть о чем-то недостижимом, вечно манящем и недающемся, прекрасном, но далеком, о чем нельзя рассказать другому нашими словами…