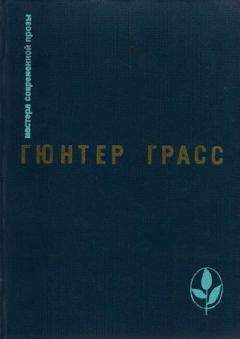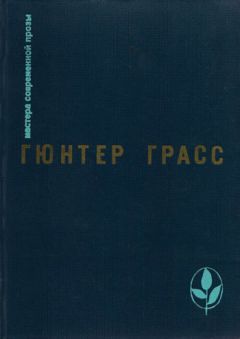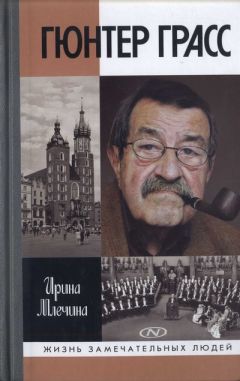Но, кто бы я ни был, я знал достоверно, что бочки с вином были монастырские бочки. Ухо мое улавливало слова и намеки, которыми перебрасывались мушкетеры, разделывая гусей и поросят, отрезая куски от барана. Я видел, как Шюц вышел во двор, но, прислушавшись к речи Гельнгаузена, поспешил назад в дом — по лестнице, в свою комнату. Я знал даже то, чего никто не знал: что в то самое время, когда близ тельгтского трактира немецкие поэты сели за пиршественный стол, в Мюнстере баварские посланники по всей форме передали Эльзас французам, получив взамен Пфальц (с обещанием вернуть ему курфюршеское достоинство). Я бы мог плакать от этой сделки, но я смеялся, потому что был тут, сидел вместе со всеми — и вместе со всеми сложил руки для вечерней молитвы, когда в наступивших сумерках под гессенским балдахином зажгли свечи в католических серебряных канделябрах. Ибо сидевший рядом с Шефлером Биркен уже встал — соревнуясь красотой с Аполлоном, который наполовину заслонил его от меня, — встал, дабы произнесть самую что ни на есть протестантскую молитву: «Будем крепью дела Христова, убежим всего мирского…»
После него речь держал от середины стола — внешний Эмс за спиной, впереди вечереющий город — Симон Дах, хотя нарезанное мясо уже дымилось в замковом фарфоре. Но, видно, слишком уж мрачно произнес молитву Биркен — «Умертвим, покуда живы, нашу плоть…», — поэтому Дах, христианин вполне практический, желал дать напутствию направление более земное: духом единым сыт не будешь, так что пусть бестревожно вкусят нежданный добрый кусок и бедные, вечно прозябающие поэты. Посему он хотел бы, не муча долее Гельнгаузена вопросами «где» и «откуда», высказать ему общую благодарность. Будь все как есть и да ублаготворят свой неизбалованный аппетит любезные друзья его — в надежде, что благословение господне покоится на всем, чем изобилен их стол. И пусть это застолье станет прелюдией к долгожданным праздничным мирным пирам.
Засим приступили к трапезе. Засучив рукава. С благословения господня. С силезским, франконским, эльбским, бранденбургским, алеманским аппетитом. Точно так же и рейтары, мушкетеры, дворняжки, конюх, служанки и доставленные из города девки. Впились в гусей, поросят и барана. Его начинка — кровяные и ливерные колбаски — также частью явилась на столе, а частью осталась у тех, кто сидел у костра. Сок, стекавший по острым, круглым, завитым бородкам, скапливался в тарелках, где настигали его ломти свежего белого хлеба. Ах, как похрустывала корочка молочных поросят! Можжевеловый дым придал особый смак баранине.
На ногах оставались только хозяйка и Гельнгаузен. Знай подносили: пшенную кашу на молоке с изюмом, блюда с засахаренным имбирем, маринованные огурцы, сливовый соус, тяжелые кувшины с красным вином, сухой козий сыр и, наконец, сваренную на кухне баранью голову — в пасть ей Либушка сунула морковку, вокруг нее соорудила белое жабо, как у какого-нибудь господина, а сверху водрузила венок из желтых кувшинок. Кураж явилась монаршей походкой, всем видом своим подчеркивая значительность ноши.
Посыпались шутки. Баранья голова взывала к метафорическим уподоблениям. Принимала славословия ямбами и хореями, трехдольником, Бухнеровыми дактилями, александрийским стихом, рифмой акрофонической, внутренней, аллитерационной, цитатами и импровизациями. Грефлингер под видом рогатого барана возносил жалобы на неверную Флору, прочие предпочитали политические экивоки.
«Не лев и не орел отважный — немецкий герб баран украсит важный», — изрек Логау. Мошерош предал сию принадлежность немецкого герба экзекуции: «Режь его на испанский манер, холоди итальянцам в пример». А Грифиус, на лице которого отражалась готовность сожрать все что ни есть на свете, на миг оторвался от свиной ножки, чтобы срифмовать: «Агнца, жаждущего мира, научит разуму секира».
Литературный магистр Бухнер терпеливо сносил скороспелые рифмы, стерпел и Цезеново: «О вече овечье, вечен твой вечер…», вставив только: хорошо хоть суровый Шюц не внемлет таким упражнениям. Дах, поливавший как раз гусиную ножку сливовым соусом, испуганно приостановился и, заметив такой же испуг у остальной компании, попросил своего Альберта посмотреть, что приключилось с гостем.
Соборный органист нашел старика в его комнате лежащим без камзола на кровати. Резко поднявшись, Шюц сказал: очень любезно с их стороны, что о нем вспомнили, но он хотел бы еще немного отдохнуть. Надобно обдумать множество новых впечатлений. Обдумать внове познанную истину, например состоящую в том, что острый смысл, подобный тому, коим отличны изречения Логау, не допускает музыки. Да, да. Он охотно верит, что во дворе царит веселье. Многоголосые отзвуки пира долетают и до окна его комнаты, в смешном свете выставляя вопросы вроде такого: ежели разум, каковой он высоко ценит, обходится без музыки, то есть ежели сочинение музыки противно разумному сочинению слов, то спрашивается, как такой холодной голове, как Логау, все же дается красота. Кузен Альберт, конечно, может посмеяться над подобным крючкотворством, назвав его, Шюца, недоношенным юристом. Ах, кабы он остался при своей юриспруденции, не поддавшись плену музыкальной стихии! И сегодня еще годы, проведенные в Марбурге, служат ему добрую службу выработанною привычкою к анализу. Дать ему немного времени, так он расплетет и самую хитроплетеную ложь. Надо лишь поискать недостающие звенья. Ибо, хотя сей приблудный Стофель будет плетун побойчее многих съехавшихся пиитов, своя логика есть и в его плетении. Что такое? Альберт все еще свято верит ему? Тогда он не станет смущать его простоту. Нет, нет, он еще придет выпить стаканчик. Чуть позже, совсем уж скоро. Пусть они не беспокоятся о нем. И Альберт пусть себе спокойно идет и веселится вместе со всеми.
Лишь когда Альберт был уже в дверях, Шюц в немногих словах поведал ему о накопившихся заботах. Назвал свое дрезденское существование плачевным. Стоило бы, кажется, вернуться в Вайсенфельс; с другой стороны, тянет в Гамбург и дальше в Глюккштадт, где он надеется найти благую весть от датского короля, приглашение в Копенгаген: оперы, балеты, веселые мадригалы… Лауремберг обнадежил его: наследный принц благосклонен к искусствам. На всякий случай с собой у него вторая часть «Sinphoniae sacrae»[18], посвященная князю. Потом Шюц снова улегся, однако глаза не закрыл.
Сообщение о том, что капельмейстер курфюршества несколько позже ненадолго спустится во двор, было встречено с облегчением двоякого рода: с одной стороны, суровый гость отсутствовал, стало быть, не потому, что осерчал, с другой — суровый гость явится за развеселый, порою не в меру шумный стол не сей же миг. Нам, по правде говоря, хотелось еще побыть одним, среди своей братии.
Грефлингер и Шнойбер подманили к столу трех служанок хозяйки, а за ними — по инициативе Гельнгаузена — и тельгтских девиц. Эльзаба плюхнулась к Мошерошу на колени. По-видимому, старый Векерлин тишком подослал к Гергардту двух разухабистых девиц, и они взяли его в тиски. Когда нареченная Марией красотка доверчиво и словно привычно прильнула к студиозусу Шефлеру, того не замедлили с ног до головы окатить насмешками. Пуще других усердствовали Лауремберг и Шнойбер: уж не его ли это дева Мария? Уж не думает ли он через нее сочетаться с католической церковью? Подзуживания в таком духе сыпались до тех пор, пока Грефлингер не погрозил им своими баварскими кулачищами.
На другом конце стола Риста, запустившего проповеднические длани свои под потаскушкины перси, обидел Логау. Вроде бы и сказал-то Уменьшающий Крепкому всего-навсего, что, мол, когда в обеих руках столько сокровищ, то уж кружку с вином не удержишь, а вышла обида. Рист немедленно выпростал обе руки, а заодно и язык. Остроумие Логау он назвал ядовитым, поскольку чуждо оно здоровому юмору, а отнять здоровый юмор — останется ирония, а ирония — дело не немецкое, а не немецкое дело — «не немцу и делать».
Возник новый диспут, так что о девицах и служанках на время позабыли. Зато за кувшины с вином хватались чаще прежнего: спор о юморе и иронии требовал смочить горло. Логау вскоре оказался в одиночестве, вслед за Ристом на него ополчился и Цезен, нашедший его уничижительный взгляд на вещи, людей и обстоятельства разлагающим, чужим, не немецким, омакароненным, то бишь дьявольским — да, вот слово, объединившее Риста с Цезеном: оба они полагали, что хитроумные двустишия коварного Логау происхождения дьявольского. Почему? Потому что ирония — от дьявола. Почему от дьявола? Потому что отцы ее — макаронники, а стало быть, дьявол.
Гофмансвальдау пытался прекратить сей немецкий спор, но его юмор для такой миссии не годился. Старого Векерлина почвенная кутерьма забавляла. Грифиус, утративший от обильного возлияния дар речи, мог реагировать только гомерическим хохотом. Когда вставил словечко в пользу Логау Мошерош, на него тут же зашикали: мол, у самого-то имечко — о господи! — такое же мавританское, как и немецкое. Лауремберг исподтишка выругался. Кто-то хватил кулаком по столу. Вино опрокинулось и пролилось. Грефлингер раздул ноздри, предвкушая драку. Дах уж было встал, чтобы предотвратить разгул грубой силы своим доселе авторитетным кличем: «Довольно, дети мои!», как во дворе в дорожном плаще показался выступивший из темноты Генрих Шюц, и все сразу протрезвели.