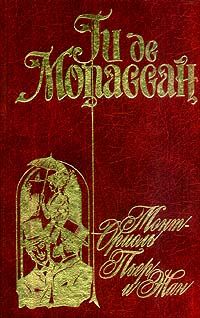Но она была так спокойна и невозмутима, так уверена в себе! Возможно ли, чтобы женщина, подобная его матери, чистая сердцем и прямодушная, могла пасть, увлеченная страстью, а впоследствии ничем не выдать своего раскаяния, укоров нечистой совести?
Ах, раскаяние, раскаяние! Когда-то, в первое время, оно, должно быть, жестоко терзало ее, но потом это прошло, как все проходит. Конечно, она оплакивала свое падение, но мало-помалу почти забыла о нем. Не обладают ли все женщины, решительно все, этой необычайной способностью забвения, так что спустя несколько лет они едва узнают того, кто прижимался устами к их устам и осыпал поцелуями их тело? Поцелуй разит, точно молния, страсть проносится грозой, потом жизнь, как и небо, снова безоблачна, и все идет по-прежнему. Разве вспоминают о туче?
Пьер не мог больше оставаться в своей комнате. Этот дом, дом отца, угнетал его. Он чувствовал тяжесть крыши над головой, стены душили его. Ему хотелось пить; он зажег свечу и пошел на кухню выпить холодной воды из-под крана.
Он спустился в нижний этаж, а потом, поднимаясь по лестнице с полным графином, присел в одной рубашке на ступеньку, где тянуло сквозняком, и стал жадно пить воду прямо из горлышка, большими глотками, как человек, запыхавшийся от бега. Он еще посидел, не двигаясь, и его поразила тишина дома; постепенно он стал различать малейшие звуки. Сначала тиканье часов в столовой; казалось, оно становилось громче с каждой минутой. Потом он опять услышал храп, старческий храп, прерывистый, частый, — видимо, это храпел отец; его передернуло от мысли, словно она впервые вспыхнула у него в мозгу, что эти двое людей, храпевшие под одной крышей, отец и сын, не имеют друг с другом ничего общего! Никакие узы, даже самые невесомые, не связывали их, и они этого не знали! Они дружески беседовали между собой, обнимались, вместе радовались и печалились, как будто в их жилах текла одна кровь. А между тем двое людей, родившихся на противоположных концах земли, не могли бы быть более чуждыми друг другу, чем этот отец и этот сын; они думали, что любят друг друга, потому что между ними стояла мать. Да, именно ложь породила эту отеческую и сыновнюю любовь, ложь, которую нельзя разоблачить, о которой никто никогда не узнает, кроме него, кроме истинного сына.
А все-таки что, если он ошибается? Как убедиться? Ах, если бы какое-нибудь сходство, хоть малейшее, между его отцом и Жаном, то таинственное, передающееся от дедов к правнукам сходство, которое свидетельствует, что целый род нисходит по прямой линии от одного объятия. Ему, врачу, чтобы уловить это сходство, достаточно было бы подметить форму челюсти, горбинку носа, расстояние между глазами, строение зубов или волос, даже еще меньше — жест, привычку, манеру держаться, унаследованный вкус, какой-нибудь характерный для опытного глаза признак.
Он доискивался, но ничего не мог припомнить, ровно ничего. Впрочем, до сих пор он плохо всматривался, плохо наблюдал, так как не имел никакой надобности отыскивать эти неуловимые приметы.
Он встал, чтобы вернуться к себе в комнату, и начал медленно подниматься по лестнице, погруженный в раздумье. Поравнявшись с дверью брата, он круто остановился и протянул руку, чтобы открыть ее. Его охватило неодолимое желание сейчас же увидеть Жана, пристально вглядеться в него, застигнуть его во время сна, когда все спокойно, когда мускулы не напряжены и отдыхают, когда с лица сошли все ужимки жизни. Он овладеет тайной его спящего лица, и, если есть сколько-нибудь уловимое сходство, оно не ускользнет от него.
А если Жан проснется, что сказать ему? Как объяснить свое посещение?
Он все не уходил и судорожно сжимал пальцами дверную ручку, подыскивая какой-нибудь предлог, чтобы войти.
Вдруг он вспомнил, что на прошлой неделе, когда у Жана разболелись зубы, он дал ему пузырек с каплями. Разве у него самого не могли болеть зубы? Вот он и придет за лекарством. И Пьер вошел в комнату, но крадучись, как вор.
Жан спал, приоткрыв рот, глубоким, здоровым сном. Его борода и белокурые волосы выделялись на белизне подушки, словно золотое пятно. Он не проснулся, только перестал храпеть.
Пьер, склонившись над братом, жадно вглядывался в него. Нет, этот молодой человек не походил на Ролана; и Пьер опять вспомнил об исчезнувшем портрете Марешаля. Он должен его найти! Посмотрев на него, он, быть может, перестанет терзаться сомнениями.
Жан шевельнулся, почувствовав чье-то присутствие или обеспокоенный светом свечи, которую брат поднес к его лицу. Тогда Пьер на цыпочках отступил к двери и бесшумно притворил ее за собою; он вернулся к себе, но в постель уже не лег.
Медленно наступал рассвет. Часы в столовой отбивали час за часом, и бой их был полнозвучным и торжественным, как будто этот небольшой часовой механизм вобрал в себя соборный колокол. Звон поднимался по пустой лестнице, проникал сквозь двери и стены и замирал в глубине комнат, в нечутких ушах спящих. Пьер шагал взад и вперед по комнате, от кровати к окну. Что ему делать? Он был слишком потрясен, чтобы провести этот день в семье. Ему хотелось побыть одному, по крайней мере, до завтра, чтобы поразмыслить, успокоиться, найти в себе силы для той повседневной жизни, которую опять надо будет вести.
Ну что ж, он поедет в Трувиль, посмотрит на тех отдыхающих, которыми кишит пляж. Это развлечет его, изменит ход его мыслей, даст ему время свыкнуться с ужасным открытием.
Как только забрезжил рассвет, он умылся, оделся. Туман рассеялся, погода была хорошая, очень хорошая. Пароход в Трувиль отходил только в девять часов, и Пьер подумал, что ему следовало бы перед отъездом проститься с матерью.
Дождавшись часа, когда она обычно вставала, он спустился вниз и подошел к ее двери. Сердце его билось так сильно, что он остановился перевести дыхание. Его рука, вялая и дрожащая, лежала на ручке двери, но он не в силах был повернуть ее. Он постучал. Голос матери спросил:
— Кто там?
— Я, Пьер.
— Что тебе?
— Только попрощаться. Я уезжаю на весь день в Трувиль с друзьями.
— Я еще в постели.
— Ты не вставай, не надо. Я поцелую тебя вечером, когда вернусь
Он уже надеялся, что сможет уехать, не повидав ее, не коснувшись ее щеки лживым поцелуем, от которого его заранее мутило.
Но она ответила:
— Сейчас открою. Ты только подожди, пока я опять лягу.
Он услышал шаги ее босых ног по полу, потом стук отодвигаемой задвижки.
— Войди! — крикнула она.
Пьер вошел. Она сидела на постели, возле Ролана, который, в ночном колпаке, повернувшись к стене, упорно не желал просыпаться. Разбудить старика можно было, только тряся его изо всех сил за плечо. В дни рыбной ловли, в назначенный матросом Папагри час, звонком вызывали служанку, чтобы она растолкала хозяина, спящего непробудным сном.
Подходя к матери, Пьер взглянул на нее, и ему вдруг показалось, что он впервые видит ее.
Она подставила ему обе щеки, и, поцеловав ее, он сел на низенький стул.
— Ты еще с вечера решил поехать в Трувиль? — спросила она.
— Да, с вечера.
— К обеду вернешься?
— Не знаю еще. Во всяком случае, не ждите меня.
Он рассматривал ее с изумлением и с любопытством. Так эта женщина — его мать! Это лицо, которое он привык видеть с детства, как только его глаза научились различать предметы, эта улыбка, голос, такой знакомый, такой родной, показались ему внезапно новыми, совсем иными, чем были для него всегда. Он понял, что, любя мать, никогда не вглядывался в нее. Между тем это была она, все мельчайшие черты ее лица были ему знакомы, только он впервые видел их так отчетливо. Пьер изучал дорогой ему облик с таким тревожным вниманием, что он представился ему совсем иным, каким он никогда его раньше не видел.
Он встал, собираясь уйти, но, внезапно уступив непреодолимому желанию узнать правду, терзавшему его со вчерашнего дня, сказал.
— Послушай, кажется, когда-то в Париже в нашей гостиной был портрет-миниатюра Марешаля.
Мгновение она колебалась, или ему почудилось, что она колеблется, потом ответила:
— Да, был.
— Куда же делся этот портрет?
И на этот раз она могла бы, пожалуй, ответить быстрее.
— Куда делся… постой… что-то не припомню. Наверно, он у меня в секретере.
— Может быть, ты найдешь его?
— Поищу. Зачем он тебе?
— Не мне. Я подумал, что надо бы отдать портрет Жану, это ему будет приятно.
— Ты прав, это хорошая мысль. Я поищу портрет, как только встану.
И он вышел.
День был безоблачный, тихий, без малейшего ветра. На улице, казалось, всем было весело — коммерсантам, шедшим по своим делам, и чиновникам, шедшим в канцелярии, и молоденьким продавщицам, шедшим в магазин. Кое-кто даже напевал, радуясь ясному дню.
На трувильский пароход уже садились пассажиры. Пьер устроился поближе к корме, на деревянной скамейке.
«Встревожил ее мой вопрос о портрете или только удивил? — спрашивал он себя. — Потеряла она его или спрятала? Знает она, где он, или не знает? А если спрятала, то почему?»