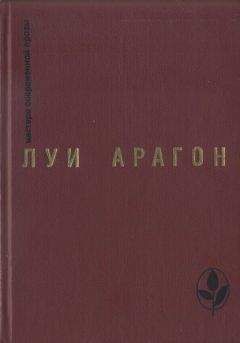Но я уперся:
— Откуда мне знать, ведь я-то не слушаю национальное радио.
Он воздел руки к небу.
— Нечего вам пыжиться, мы же свои люди. Эта война слишком затянулась, людям скучно, я прекрасно это понимаю. И вот однажды, совсем случайно, сидя у приемника…
— Но нет у меня никакого приемника!
— Да не прерывайте вы меня на каждом слове, это невежливо. Однажды, сидя у приемника, вы поворачиваете ручку настройки, тут идут всякие помехи, вы стараетесь их устранить, слышно плохо, вы пытаетесь лучше расслышать… О, без всякого злого умысла, это, скорее, похоже на игру и делается, скорее, из спортивного интереса… Человек не становится заговорщиком только потому, что он слушает иностранные передачи. Иначе придется считать, что вся Франция строит заговоры… Впрочем, в какой-то степени так оно и есть. Но все это не слишком серьезно… немножко слушают радио… немножко строят заговоры… Итак, вы сознаетесь?
И поскольку я отрицательно покачал головой, тон его изменился, стал угрожающим:
— Вы отказываетесь признать факты? Ну ладно. Мы займемся вашим делом. Особенно после того, как вы так уклончиво отозвались о политике премьера Лаваля…
— Да, но позвольте…
— Не позволю! Слишком много вам было позволено. Вот почему мы и оказались в таком положении. Отношение к премьеру Лавалю — это уже может служить тестом. Вы, вероятно, не знаете, что такое тест? Пфеффер, он не знает, что такое тест.
Он сделал жест, выражающий бесконечную усталость и отчаяние. Знай я даже, что означает слово «тест», я не успел бы ему это объяснить. Теперь он обращался только к Пфефферу.
— Видите ли, Пфеффер, когда вы послужите с мое в нашей конторе, вы тоже порой будете чувствовать усталость при одной только мысли о том, с какими людьми нам приходится сталкиваться, иметь дело во время нашей работы. Я имею в виду их интеллект. Да-да. Народ это очень разный. К ним все время надо подлаживаться и следить за своей речью, подбирать нужные слова. Как по-вашему, дела при этом могут идти нормально? А ведь наш язык — образец ясности и простоты. Подумайте только, что в немецком языке… да, в немецком, если я не ошибаюсь, мне на днях говорил этот офицер из военно-полевой жандармерии, есть слова из шестидесяти, семидесяти букв… так что представляете себе… А здесь эти недоумки даже такое короткое французское слово из четырех букв, как «тест»…
Он замолчал, казалось, у него возникли серьезные сомнения.
— Если я не ошибаюсь, Пфеффер, слово из четырех букв: тест, ведь это пишется не «тейст», а «тест»? Нет, я думаю, там действительно всего четыре буквы…
Тут он взглянул на своего подчиненного со снисходительностью, к которой примешивался легкий оттенок презрения.
— Четыре буквы, Пфеффер… Но я все-таки ждал, что вы сделаете мне небольшое замечание. Короткое французское слово из четырех букв… у вас это не вызывает никаких возражений?
Лицо Пфеффера выражало глубокое волнение. Что хотел сказать его шеф? Слово из четырех букв? Он не знал, следует ли ему засмеяться, он бросил вопросительный взгляд на своих коллег, тех, что стояли как истуканы. Но и они не пришли ему на помощь.
— Короткое французское слово, Пфеффер, вы — невежда. Это же не французское слово, Пфеффер, а английское, английское слово… И не смотрите на меня с таким невинным видом. В наши дни можно употреблять английские слова и не быть при этом англофилом. К примеру, слово «трест»… Ну так вот, это — английское слово, но оно вошло в словарь нашей «национальной революции». Мы должны знать эти слова, чтобы с ними бороться… С трестами, а не с тестами, понятно, до чего же вы глупы.
Полина имела неосторожность прервать его. Это в ее духе, я всегда говорю, что нельзя этого делать, но она меня не слушает.
— Что касается трестов, — сказала она, — не пора ли вам отсюда убираться?
Надо признать, что это было невежливо, да и логики в ее словах никакой не имелось. Толстяк и Пфеффер пришли в ярость. Я постарался вмешаться.
— Такой уж у Полины характер, господин инспектор, уже целых тридцать пять лет…
— Так вот, — взвизгнул он, — если вы терпите ее тридцать пять лет, то с меня достаточно и тридцати пяти минут.
В это самое время те двое, что шарили в кухне, появились с бутылкой постного масла. Петипон ликовал.
— Смотрите, шеф, с черного рынка. Тут около литра масла.
Полина тотчас возразила:
— Да это просто бутылка такая, взгляните, какое у нее донышко.
Толстяк и слышать ничего не хотел.
— Продукты с черного рынка, с черного рынка. Они слушают иностранные передачи и покупают масло на черном рынке.
Тут уже и я вмешался. Это была полная нелепица. Этого я им, естественно, не сказал, потому что уже начал понимать, что мои слова только подлили бы масла в огонь. Толстяк размахивал руками.
— Конфисковать, конфисковать, в стране не хватает жиров, а вы вон как!
Полина была в полном отчаянии. Вы же понимаете, ее драгоценное масло.
— Ну хватит, — крикнул толстяк, — стройте себе заговоры, если это вам так нравится, но никто не позволит вам морить голодом наш несчастный народ. Пока на свете существуют такие люди, как вы, Франция не сможет возродиться.
И опять тон его внезапно совершенно изменился, что уже однажды поразило меня:
— Итак, вы мне сейчас скажете, кто вам продал это масло.
— Конечно, — ответила Полина, — мадам Делавиньет…
— Ах так, Делавиньет, запишите, Пфеффер, Делави…
— …В «Док Реюни», мадам Делавиньет, наша бакалейщица…
— На какой улице?..
— Да тут совсем рядом… само собой. Ведь она наша бакалейщица.
— И почем она вам его продала?
— Право, я уже не помню, какая тогда была цена…
— Восемьсот франков за литр небось?
— Вы что, в своем уме? Ах, простите, господин инспектор…
В общем, еще одно недоразумение. Они навалили кучу вещей на письменный стол, с которого сбросили на пол ковровую скатерть; тут были моя старая записная книжка, квитанции за газ, бутылка с маслом, детективный роман, показавшийся им подозрительным из-за названия «Преступление в Виши», и еще разную мелочь; один из тех, кто все время молчал, сидя за столом рядом с этой добычей, в поте лица начал составлять протокол обыска, который они затем предложили мне подписать. Я, естественно, захотел предварительно его прочитать. Но, видимо, это тоже теперь не полагается делать. Словом, я подписал, чтобы они только оставили меня в покое. Один из тех, кто молчал, начал вытирать башмаки о ковровую скатерть. Толстяк взял протокол и подул на подпись. Потом он немного отодвинул листок от себя, словно собирался его прочитать. Он рассмотрел мою подпись. Нахмурил брови. Поднес бумагу к глазам, потом снова отодвинул. И взорвался:
— Что это еще за шуточки? Как вы подписались?
Я со смиренным видом слегка поклонился.
— Поставил свою фамилию. К сожалению, это моя фамилия.
— Как к сожалению? Вы утверждаете, что ваша фамилия…
— Петэн… но я Робер, Робер Петэн… Да, из-за этого на меня иногда косятся в нашем квартале… Но я тут ни при чем, это моя фамилия… Нет, мы, конечно, не родственники.
Инспектор был в ярости. Ну и выдал же он мне. Наконец я достал свои документы, желая доказать ему, что я вовсе не издеваюсь над ним, что меня действительно зовут так, что так же звали моего бедного, весьма почтенного отца. Если бы мы могли знать заранее, мы бы переменили фамилию. Но когда мой отец был молод, это была самая обычная фамилия…
— Ну, знаете, хватит.
Борсалино снова было надвинуто на глаза.
— Ваши шуточки неуместны… Но если вас зовут так… как вы говорите… кто же в таком случае Сельер, Симон Сельер? Это не вы, вы уверены, что это не вы? Вот досада. Мы должны были произвести обыск у некоего Симона Сельера… Послушайте, у вас здесь какой номер?..
— Номер?
— Ну да… какой номер дома по вашей улице?..
— Восемнадцатый…
— Черт побери, он же живет в доме номер шестнадцать, этот Сельер…
Тут Полина, как и всегда, решила, что теперь она может перейти в наступление и начала кричать:
— Нет, как вам это нравится, вы еще и до восемнадцати считать не научились, а вот врываетесь к людям!
И снова в ее словах не было никакой логики, потому что дома считают не подряд, от одного до восемнадцати, а через один, а потом, если люди умеют считать до восемнадцати, это еще не дает им права врываться в чужие квартиры. Толстяк грубо оборвал ее.
— К тому же, — добавил он, — вы подписали протокол, и делу будет дан законный ход.
Напрасно я пытался протестовать, говорил, что если бы я знал, то никогда бы не стал подписывать его, но дело было сделано, я его подписал.
— Ну и сел в лужу, — сказала Полина, — с тобой всегда так.
В два счета наш Борсалино собрал своих молодчиков. Они исчезли так же быстро, как и появились… Но при этом не забыли забрать с собой наше масло, счета за газ и протокол, не говоря уже о печеньях, которые они успели стащить в последнюю минуту. Худющий выходил первый, он оглянулся, сжал клешней омара ручку двери и присвистнул на прощание, это было последнее, что мы от них услышали.