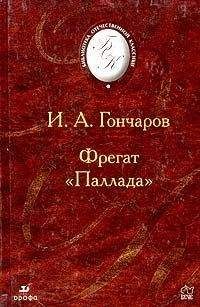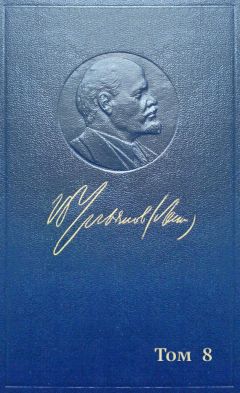II
Обращаюсь к вышесказанным мною словам о страшных и опасных минутах, испытанных нами в плавании.
"Страшные" и "опасные" минуты – это не синонимы, как не синонимы и самые слова "страх" и "опасность" вообще, на море особенно. Страшных минут для иных вовсе не существует, для других – их множество. Это зависит от привычки или непривычки к морю, то есть от знакомства или незнакомства с его характером, с устройством и управлением корабля и, наконец, от нервозности характера или от воспитания плавателя. Новичку всё кажется страшно или сомнительно на корабле. "Пошел все наверх!" – скомандует боцман, и четыреста человек бросятся как угорелые, точно спасать кого-нибудь или сами спасаться от гибели, затопают по палубе, полезут на ванты: не знающий дела или нервозный человек вздрогнет, подумает, что случилась какая-нибудь беда. Ничего не бывало: надо прибавить или убавить парусов или что-нибудь в этом роде. А там загремит бегущий по роульсам (колесцам) канат. Не то так от качки, как будто с отчаяния, распахнет свои дверцы какой-нибудь шкап в каюте, и вся его внутренность, то есть посуда, – с треском и звоном полетит во всё стороны и разобьется вдребезги. Чего не представится испуганному воображению нового плавателя при этом треске! Минута – "страшная", но только разве для буфетчика, который не запер крепко дверцы и которому за это достанется.
Так и мне, не ходившему дотоле никуда в море далее Кронштадта и Петергофа, приходилось часто впадать в сомнение при этих, по непривычке "страшных", но вовсе не "опасных", шумах, тресках, беготне, пока я не ознакомился с правилами и обычаями морского быта.
Другое дело "опасные" минуты: они нечасты, и даже иногда вовсе незаметны, пока опасность не превратится в прямую беду. И мне случалось забывать или, по неведению, прозевать испугаться там, где бы к этому было больше повода, нежели при падении посуды из шкафа, иногда самого шкафа или дивана.
О многих "страшных" минутах я подробно писал в своем путевом журнале, но почти не упомянул об "опасных": они не сделали на меня впечатления, не потревожили нерв – и я забыл их или, как сказал сейчас, прозевал испугаться, оттого, вероятно, прозевал и описать. Упомяну теперь два-три таких случая.
Идучи на фрегате "Паллада" из Кронштадта в Англию, мы проходили Зунд.
Я писал тогда, как неблагоприятно было наше плавание по Балтийскому морю в октябрьскую холодную погоду, при противных ветрах и туманах. Кроме того, как я тоже писал, у нас умерло три человека от холеры. И привычным людям казалось трудно такое плавание, а мне, новичку, оно было еще невыносимо и потому, что у меня, от осеннего холода, возобновились жестокие припадки, которыми я давно страдал, невралгии с головными и зубными болями. В каюте от внешнего воздуха с дождем, отчасти с морозом, защищала одна рама в маленьком окне.
Иногда я приходил в отчаяние. Как, при этих болях, я выдержу двух- или трехгодичное плавание? Я слег и утешал себя мыслью, что, добравшись до Англии, вернусь назад. И к этому еще туманы, качка и холод!
С приближением к Дании воздух стал гораздо мягче, теплее, но туманы продолжались. При входе в Зунд мы, как всегда делается в узких проходах, вызывали лоцмана, чтобы провести нас проливом. Вызывают обыкновенно лоцманским флагом, а если флаг не виден, палят из пушки. Но, вероятно, флага, за туманом, с берегу не было видно (я теперь забыл эти подробности), а пушка могла палить и по другой причине: что бы там ни было, но лоцман не явился. Мы шли, так сказать, ощупью, подвигаясь тихо, осторожно, но всё же подвигались: нельзя стать в открытом море на одном месте. Когда туман прояснился, мы были уже в проливе.
Было тепло, мне стало легче, я вышел на палубу. И теперь еще помню, как поразила меня прекрасная, тогда новая для меня, картина чужих берегов, датского и шведского.
Обаяние, производимое величественною картинностью моря и берегов, возымело свое действие надо мною. Я невольно отдавался ему, но потом опять возвращался к своим сомнениям: привыкну ли к морской жизни, дадут ли мне покой ревматизмы? Море и тянет к себе, и пугает, пока не привыкнешь к нему. Такое состояние духа очень наивно, но верно выразила мне одна француженка, во Франции, на морском берегу, во время сильнейшей грозы, в своем ответе на мой вопрос, любит ли она грозу? "Oh, monsieur, c'est ma passion, – восторженно сказала она, – mais… pendant l'orage je suis toujours mal а mon aise!"* "О сударь, это моя страсть.. но… во время грозы мне всегда не по себе!" (фр.).
Капитан и так называемый "дед", хорошо знакомый читателям "Паллады", старший штурманский офицер (ныне генерал), – оба были наверху и о чем-то горячо и заботливо толковали. "Дед" беспрестанно бегал в каюту, к карте, и возвращался. Затем оба зорко смотрели на оба берега, на море, в напрасном ожидании лоцмана. Я всё любовался на картину, особенно на целую стаю купеческих судов, которые, как утки, плыли кучей и всё жались к шведскому берегу, а мы шли почти посредине, несколько ближе к датскому.
Тревожился поминутно капитан, тревожился и дед, и не раз, конечно, назвал лоцмана за неявку "каторжным". Он побежал в двадцатый раз вниз. Вдруг капитан послал поспешно за ним.
Они, казалось, оба были чем-то поражены.
– Мы на мели! – дошли до моего слуха тихие слова.
Я пощупал ногой палубу: она перестала двигаться, ноги стояли будто на земле.
Я смотрел на всё это рассеянно и слушал с большим равнодушием, что говорили кругом. Меня убаюкивал тихий плеск моря, теплая погода и поглощала
– Какая благодать! – говорил я себе, ощутив под ногами неподвижные доски палубы.
Но что за суматоха поднялась на фрегате – "из-за таких пустяков!" – думал я.
Засвистали всех наверх, поднялась возня, шум: "Спускать шлюпку! завозить верпы!" – только и слышалось. Офицеры, кто спал, кто читал или писал, – все принялись за дело.
Верпы – маленькие якоря, которые, завезя на несколько десятков сажен от фрегата, бросают на дно, а канат от них наматывают на шпиль и вертят последний, чтобы таким образом сдвинуть судно с места. Это – своего рода домашний способ тушить огонь, до прибытия пожарной команды.
Но тяжелый наш фрегат, с грузом не на одну сотню тысяч пуд, точно обрадовался случаю и лег прочно на песок, как иногда добрый пьяница, тоже "нагрузившись" и долго шлепая неверными стопами по грязи, вдруг возьмет да и ляжет средь дороги. Напрасно трезвый товарищ толкает его в бока, приподнимает то руку, то ногу, иногда голову. Рука, нога и голова падают снова как мертвые. Гуляка лежит тяжело, неподвижно и безнадежно, пока не придут двое "городовых" на помощь.
И фрегат, потрогиваемый слабыми верпами, как будто подастся, поползет, крякнет, раздадутся радостные восклицания – а он ни с места. Нет, надо послать за "городовым". И послали.
Смотрел я на всю эту суматоху и дивился: "Вот привычные люди, у которых никаких "страшных" минут не бывает, а теперь как будто боятся! На мели: велика важность! Постоим, да и сойдем, как задует ветер посвежее, заколеблется море!" – думал я, твердо шагая по твердой палубе. Неопытный слепец!
– Подступиться разве к ним и спросить, что их так тревожит? Приступу нет: и не глядят!
Я помню только, что один из офицеров, барон Шлипенбах, оделся в полную форму и поспешно послан был в Копенгаген за пароходом помочь нам сняться с мели.
Пока моряки переживали свою "страшную" минуту, не за себя, а за фрегат, конечно, – я и другие, неприкосновенные к делу, пили чай, ужинали и, как у себя дома, легли спать. Это в первый раз после тревог, холода, качки!
– Какая благодать! – твердил я, ложась, как на берегу, дома, на
Чуть ли не грезилось мне тогда во сне, что мы дальше не пошли, а так на мели и остались, что морское начальство в Петербурге соскучилось ждать, когда мы сдвинемся, и отложило экспедицию и что мы все воротились домой безмятежно спать на незыблемых ложах.
Но под утро, сквозь сон, я услышал звук боцманских свистков, почувствовал, как моя койка закачалась подо мной и как нас потащил могучий "городовой", пароход из Копенгагена. Тогда, кажется, явился и лоцман.
На другой день, когда вышли из Зунда, я спросил, отчего все были в такой тревоге, тем более что средство, то есть Копенгаген и пароход, были под рукой? Тогда только объяснили мне техническую сторону дела: что значит, когда судно "приткнется" к мели. Прежде всего, даже легкое приткновение что-нибудь попортит в киле или в обшивке (у нашего фрегата действительно, как оказалось при осмотре в Портсмутском доке, оторвалось несколько листов медной обшивки, а без обшивки плавать нельзя, ибо-де к дереву пристают во множестве морские инфузории и точат его), а главное: если бы задул свежий ветер и развел волнение, тогда фрегат не сошел бы с мели, как я, по младенчеству своему в морском деле, полагал, а разбился бы в щепы!
"И опять-таки мы всё воротились бы домой! – думал я, дополняя свою грезу: берег близко, рукой подать; не утонули бы мы, а я еще немного и плавать умею". Опять неопытность! Уметь плавать в тихой воде, в речках, да еще в купальнях, и плавать по морским, расходившимся волнам – это неизмеримая, как я убедился после, разница. В последнем случае редкий матрос, привычный пловец, выплывает.