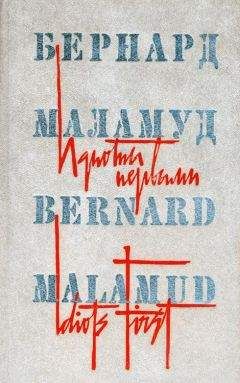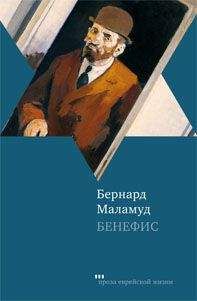Посмотрю, какое будет настроение в пятницу, как пойдут дела. Не могу обещать.
Постарайся вырваться. Пройдет эта полоса, дай только срок. Если увидишь, что у вас налаживается, приходи. Да и не налаживается — все равно приходи, надо же тебе как-то развеяться, прогнать тревогу. В твоем возрасте тревожиться все время не так полезно.
Это самая плохая тревога. Когда я тревожусь из-за себя, я знаю, о чем тревожусь. Понимаешь, тут нет никакой загадки. Я могу сказать себе: Лео, ты старый дурак, перестань тревожиться о пустяках — о чем, о нескольких долларах? О здоровье? Так оно неплохое, хотя бывают и получше дни, и похуже. О том, что мне под шестьдесят и я не молодею? Раз ты не умер в пятьдесят девять лет, доживешь до шестидесяти. Время не остановишь, оно с тобой бежит. Но когда тревожишься за другого, это гораздо хуже. Вот тут настоящая тревога — ведь если объяснить не хочет, в душу к человеку не влезешь и причины не поймешь. Не знаешь, какой там повернуть выключатель. И только хуже тревожишься.
Вот и стою в передней.
Гарри, не тревожься так из-за войны.
Пожалуйста, не учи меня, из-за чего тревожиться, из-за чего не тревожиться.
Гарри, твой отец тебя любит. Когда ты был маленьким и я приходил с работы, ты всегда подбегал ко мне. Я брал тебя на руки и поднимал к потолку. Ты любил дотянуться до потолка ручкой.
Я больше не желаю об этом слышать. Хотя бы от этого меня избавь. Не желаю слышать, как я был маленьким.
Гарри, мы живем как чужие. Я просто подумал, что помню лучшие времена. Помню, мы не боялись показать, что любим друг друга.
Он не отвечает.
Давай я сделаю тебе яичницу.
Избавь ты меня от яичницы.
А чего ты хочешь?
Он надел пальто. Снял шляпу с вешалки и спустился на улицу.
Гарри в длинном пальто и коричневой шляпе со складкой на тулье шагал по Оушн Паркуэй. Отец шел следом, и Гарри кипел от ярости.
Он быстро шагал по широкой улице. Прежде вдоль тротуара, где проложена велосипедная дорожка из бетона, была дорожка для верховой езды. И деревьев было меньше, их сучья рассекали пасмурное небо. На углу авеню X, где уже чувствуется близость Кони-Айленда, Гарри перешел улицу и повернул к дому. Он сделал вид, что не заметил, как пересек улицу отец, но был в бешенстве. Отец пересек улицу и двигался следом. Подойдя к дому, он решил, что сын, наверно, уже наверху. Закрылся у себя в комнате. И занялся чем-то, чем он там занимается.
Лео вынул ключ и открыл почтовый ящик. В нем оказалось три письма. Посмотрел, нет ли среди них случайно письма ему от сына. Дорогой папа, позволь тебе все объяснить. Я веду себя так потому… Письма от сына не было. Одно из благотворительного общества почтовых служащих — его он сунул в карман. Другие два — сыну. Одно из призывной комиссии. Он понес его сыну, постучался в комнату, подождал.
Пришлось еще подождать.
На ворчание сына он ответил: тебе письмо из призывной комиссии. Он нажал на ручку и вошел в комнату. Сын лежал на кровати с закрытыми глазами.
Оставь на столе.
Гарри, хочешь, я открою?
Нет, не хочу. Оставь на столе. Я знаю, о чем оно.
Ты туда еще раз писал?
Это мое дело.
Отец оставил письмо на столе.
Второе письмо сыну он унес на кухню, затворил дверь и вскипятил в кастрюле воду. Он решил, что быстренько прочтет его, заклеит аккуратно, а потом спустится и сунет в ящик. Жена, возвращаясь от дочери, вынет письмо и отдаст Гарри.
Отец читал письмо. Это было короткое письмо от девушки. Она писала, что Гарри взял у нее две книги полгода назад, а она ими дорожит и поэтому просит вернуть их почтой. Может ли он сделать это поскорее, чтобы ей не писать еще раз?
Когда отец читал письмо девушки, в кухню вошел Гарри, увидел его ошарашенное и виноватое лицо и выхватил письмо.
Убить тебя надо за твое шпионство.
Лео отвернулся и посмотрел из маленького кухонного окна в темный двор-колодец. Лицо у него горело, ему было тошно.
Гарри пробежал письмо глазами и разорвал. Потом разорвал конверт с надписью «Лично».
Еще раз так сделаешь, не удивляйся, если я тебя убью. Мне надоело шпионство.
Гарри, как ты разговариваешь с отцом?
Он вышел из дому.
Лео отправился в комнату сына и стал ее осматривать. Заглянул в ящики комода, не нашел ничего необычного. На письменном столе у окна лежал листок. Там было написано рукой Гарри: Дорогая Эдита, шла бы ты. Еще одно дурацкое письмо напишешь — убью.
Отец взял пальто и шляпу и спустился на улицу. Сперва он бежал рысцой, потом перешел на шаг и наконец увидел Гарри на другой стороне улицы. Он двинулся следом, приотстав на полквартала.
За Гарри он вышел на Кони-Айленд-авеню и успел увидеть, как сын садится в троллейбус до Кони-Айленда. Ему пришлось ждать следующего. Он хотел остановить такси и ехать за троллейбусом, но такси не было. Следующий троллейбус пришел через пятнадцать минут, и Лео доехал до Кони-Айленда. Стоял февраль, на Кони-Айленде было сыро, холодно и пусто. По Сёрф-авеню шло мало машин, и пешеходов на улицах было мало. Запахло снегом. Лео шел по променаду сквозь снежные заряды и искал глазами сына. Серые пасмурные пляжи были безлюдны. Сосисочные киоски, тиры, купальни заперты наглухо. Серый океан колыхался, как расплавленный свинец, и застывал на глазах. Ветер задувал с воды, пробирался в одежду, и Лео ежился на ходу. Ветер крыл белым свинцовые волны, и вялый прибой валился с тихим ревом на пустые пляжи.
На ветру он дошел почти до западной оконечности бывшего острова и, не найдя сына, повернул назад. По дороге к Брайтон-Бич он увидел человека, стоящего в пене прибоя. Лео сбежал по ступенькам с набережной на рифленый песок. Человек этот был Гарри, он стоял по щиколотку в воде, и океан ревел перед ним.
Лео побежал к сыну. Гарри, это было ошибкой, я виноват, прости, что я открыл твое письмо.
Гарри не пошевелился. Он стоял в воде, не отрываясь глядел на свинцовые волны.
Гарри, мне страшно. Скажи, что с тобой происходит. Сын мой, смилуйся надо мной.
Мне страшен мир, подумал Гарри. Мир страшит меня.
Он ничего не сказал.
Ветер сорвал с отца шляпу и покатил по пляжу. Казалось, что ее унесет под волны, но ветер погнал ее к набережной, катя, как колесо, по мокрому песку. Лео гнался за шляпой. Погнался в одну сторону, потом в другую, потом к воде. Ветер прикатил шляпу к его ногам, и Лео поймал ее. Он плакал. Задыхаясь, он вытер глаза ледяными пальцами и вернулся к сыну, стоявшему в воде.
Он одинокий. Такой уж он человек. Всегда будет одиноким.
Мой сын сделал себя одиноким человеком.
Гарри, что я могу тебе сказать? Одно могу сказать: кто сказал, что жизнь легка? С каких это пор? Для меня она была не легка, и для тебя тоже. Это — жизнь, так уж она устроена… что еще я могу сказать? А если человек не хочет жить — что он может сделать, если он мертвый? Ничего — это ничего, и лучше жить.
Гарри, пойдем домой. Тут холодно. Ты простудишься в воде.
Гарри стоял в воде не шевелясь, и немного погодя отец ушел. Когда он пошел прочь, ветер сдернул с него шляпу и погнал по песку. Лео смотрел ей вслед.
Мой отец подслушивает в передней. Он идет за мной по улице. Мы встречаемся у воды.
Он бежит за шляпой.
Мой сын стоит ногами в океане.
Волшебный бочонок
Пер. Р. Райт-Ковалева
В недавние времена жил-был в Нью-Йорке, в маленькой, почти нищенской, хотя и полной книг, комнатенке, Лео Финкель, студент Иешивского университета, где готовят раввинов. Этот Лео Финкель после шести лет обучения в июне должен был быть посвящен в сан раввина, и один знакомый посоветовал ему жениться, потому что женатому человеку легче завоевать доверие прихожан. Так как никаких видов на невесту у него не было, то, промучившись два дня этой мыслью, он вызвал к себе Пиню Зальцмана, свата, чье объявление в две строки он прочитал в газете «Форвард».
Сват появился из глубины коридора на четвертом этаже серого каменного дома, где Финкель жил на пансионе, судорожно сжимая черный, истертый до неузнаваемости портфель, перетянутый ремешками. Зальцман, занимавшийся сватовством много лет, был невысокий, но полный достоинства человек в старой шляпе и не по росту коротком и узком пальтишке. От него откровенно пахло рыбой — видно, он ее часто ел, — и хотя у него не хватало нескольких зубов, он производил скорее приятное впечатление своей приветливостью, странно противоречащей тоскливому выражению глаз. Он весь был как на пружинках — голос, губы, жиденькая бородка, костлявые пальцы, но стоило ему на минуту угомониться, как в его кротких голубых глазах появлялась такая глубокая скорбь, что Лео сразу успокоился, хотя для него вся эта ситуация была невероятно тягостна.
Он тут же сообщил Зальцману, зачем он его позвал, объяснил, что сам он родом из Кливленда и что, кроме родителей, вступивших в брак уже на склоне лет, у него нет никого на свете. Шесть лет он почти всецело посвятил себя науке, вследствие чего он, понятно, не имел возможности вращаться в обществе и встречаться с молодыми особами. Поэтому он считал, что не стоит искать вслепую, разочаровываться, а лучше позвать человека, опытного в таких делах, и посоветоваться с ним. Мимоходом он отметил, что профессия свата исстари пользовалась почетом и весьма ценилась в еврейской общине, ибо, оказывая необходимую практическую помощь, сватовство отнюдь не лишает людей счастья. Более того, собственные его родители тоже познакомились через свата. И брак их был не то чтобы очень выгодным в финансовом отношении, потому что оба они никакими особенными земными благами не владели, но зато оказался чрезвычайно удачным, так как они были безгранично преданы друг другу. Сначала Зальцман слушал растерянно и удивленно, чувствуя, что перед ним в чем-то оправдываются. Но потом в нем зажглась гордость за свою работу — чувство, которого он не ощущал уже много лет, да и Финкель явно пришелся ему по душе.