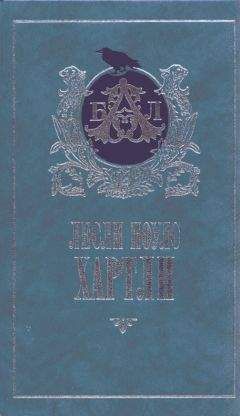— Большое вам спасибо, мистер Берджес. (Здорово я всунул «мистера».) Могу ли быть вам чем-нибудь полезен?
Я не сомневался, что он откажется, но он как-то строго посмотрел на меня и сказал:
— Может, и так.
Я вмиг навострил уши.
— Передадите кое-что для меня?
— Разумеется, — разочарованно ответил я — подумаешь, просьба! Я вспомнил поручение Тримингема и какой из этого вышел толк. — Что нужно передать и кому?
Он ответил не сразу, взял кувшин с помутневшей водой и выплеснул ее в раковину. Вернулся и встал надо мной.
— Вы не очень торопитесь? — спросил он. — Можете подождать несколько минут? — Он всегда говорил как бы всем телом, и слова его звучали удивительно весомо.
Я глянул на часы, прикинул.
— Чай у нас только в пять часов, — объяснил я. — Поздновато, да? Дома мы чаевничаем раньше. Так что могу подождать... ну, десять, пятнадцать минут.
Он улыбнулся и сказал:
— К чаю опаздывать не стоит. — Что-то его беспокоило, весь он будто переменился. — Хотите взглянуть на лошадей?
— Да, конечно. — Я постарался выказать интерес.
Мы подошли к длинному кирпичному сараю с четырьмя дверьми, в каждой — оконце, за которым виднелась голова лошади.
— Это Брайтон, — начал представлять он. — Мой главный ломовик, но в пару ни с кем впрягаться не хочет, только сам. Чудной, да? А эта гнедая кобыла — Улыбка — хороша, работу любит, но вот урожай соберем, ей время жеребиться; этого серого звать Боксер, ничего, только зубы малость длинноваты. А на этом я езжу по делам, иногда на охоту. Смотрите, какой красавец, а?
Он пригнулся и поцеловал бархатный нос, и лошадь благодарно повела ноздрями и сильно втянула ими воздух.
— А как его зовут? — спросил я.
— Дикий Злак, — ответил он с ухмылкой, и я ухмыльнулся в ответ, не ведая чему.
Казалось, вся полуденная жара сосредоточилась вокруг нас, она усиливала запах лошадей, навоза, все запахи фермы. Мне стало как-то неуютно, слегка закружилась голова, и все-таки жара бодрила меня. И когда, покончив с осмотром лошадей, мы направились к дому, я и огорчился, и обрадовался.
У входа в кухню фермер вдруг резко спросил:
— Сколько вам лет?
— В этом месяце, двадцать седьмого, будет тринадцать, — солидно ответил я, надеясь услышать что-то вроде: «Вот это здорово!» — взрослые редко пропускают мимо ушей новость о чьем-то дне рождения.
Но он сказал:
— А я думал, вам чуть больше. На вид вы старше своих лет.
Услышать это было лестно, тем более от человека столь внушительных размеров.
— Не знаю, надежный ли вы человек, — добавил он затем.
Я изумился, даже немного обиделся: но только немного — ведь это прелюдия, он, должно быть, хочет мне довериться.
Все же я негодующе произнес:
— Конечно, надежный. В моем табеле так и написано: «заслуживающий доверия». И директор то же самое сказал.
— И все-таки, — с сомнением произнес он, пристально оглядывая меня, — откуда я знаю, что вы будете держать язык за зубами?
Задавать такой вопрос школьнику — это просто глупо. Все мы клялись хранить тайну. Я взглянул на него чуть ли не с жалостью.
— Вы хотите, чтобы я перекрестился?
— Делайте что угодно, — ответил он. — Но если проболтаетесь... — Он не закончил фразу, но в воздухе повисла физическая угроза, столь естественная в присутствии этого человека.
— О нашей встрече? — спросил я. — Клянусь, я бы ни за что не сказал, но они увидят разбитое колено.
Он словно не слышал.
— Там есть мальчик, — спросил он, — паренек вашего возраста?
— Да, мой приятель Маркус, — согласился я. — Но он сейчас болеет.
— Ах, вот что, болеет, — задумчиво повторил фермер. — Значит, вы вроде сам себе хозяин.
Я объяснил: обычно после обеда мы играем вместе, но сегодня я пошел прогуляться один. Он слушал вполуха, потом сказал:
— У них там большой дом, да, здоровенный дом и полно комнат?
— Если считать спальни, — ответил я, — даже и не знаю, сколько.
— И, наверное, всегда кругом люди, болтают друг с другом и так далее? Все у всех на виду, наедине с кем-то и не останешься?
Я терялся в догадках: куда он клонит?
— Ну, со мной-то мало кто разговаривает, — пояснил я. — Они же взрослые, играют во взрослые игры — вист, теннис, ну, и болтают просто так, болтовни ради (мне это казалось очень странным занятием). Но иногда я кое с кем разговариваю, сегодня, например, с виконтом Тримингемом после церкви, а однажды я провел целый день с Мариан — вы ее знаете, она сестра Маркуса, не девушка, а загляденье — мы с ней ездили в Норидж.
— Вон что, провели вместе целый день? — переспросил фермер. — Так вы с ней небось добрые приятели?
Я задумался. В отношении Мариан мне не хотелось брать на себя больше, чем было в самом деле.
— Сегодня утром мы снова разговаривали, — сообщил я ему, — по дороге в церковь, хотя она вполне могла предпочесть мне виконта Тримингема. — Я попытался вспомнить, когда она еще ко мне обращалась. — Она часто подходит ко мне, даже когда вокруг взрослые — пожалуй, только она, больше никто. Да они мне и не особенно нужны. А ее брат Дэнис сказал, что я — возлюбленный Мариан. Несколько раз говорил.
— Вот оно что? — отозвался фермер. — Значит, вы иногда остаетесь наедине? Ну, то есть сидите в комнате вдвоем, а больше никого нет?
Он говорил с большим нажимом, выделяя слова, будто сцена представала у него перед глазами.
— Ну, иногда, — признался я, — мы сидим вместе на диване.
— На хозяйском диване? — переспросил он.
Надо было его просветить. Дома у нас и то было два дивана. Здесь, кажется, ни одного. Ну, а в Брэндем-Холле...
— Видите ли, — пояснил я, — у них там много диванов.
Он понял.
— Но когда вы сидите вместе и болтаете...
Я кивнул — мы сидели и болтали.
— Вы сидите близко от нее?
— Близко от нее? — повторил я. — Ну, вообще-то, ее платье...
— Да, да, — закивал он, уловив с полуслова. — Эти платья занимают столько места! Но все же достаточно близко... чтобы передать ей что-то?
— Передать ей что-то? Ну, конечно, я могу ей что-то передать. — Как будто речь шла о болезни; я еще не совсем забыл о кори. Он быстро сказал:
— К примеру, письмо. Но так, чтобы никто не видел.
Я едва сдержал смех — такой пустяк, а он вон до чего разволновался.
— Конечно, — сказал я. — Для этого — достаточно близко.
— Тогда я напишу ей, — заявил он, — если подождете.
Он отошел, но тут мне пришла в голову одна мысль.
— Как же вы ей напишете, если не знаете ее?
— Кто сказал, что я ее не знаю? — почти свирепо возразил он.
— Вы. Сказали, что никого в Холле не знаете. А она мне сказала, что не знает вас, — я спрашивал.
Он на мгновение задумался, в глазах появилось напряженное выражение — такое же было, когда он плыл.
— Она сказала, что не знает меня? — переспросил он.
— Ну, сказала, может, вы и встречались, но она не помнит.
Он глубоко вздохнул.
— Она знает меня, только по-особому, — произнес он. — Я, можно сказать, ее друг, но не такой, с какими она ходит. Это, наверное, она и имела в виду... — Он помолчал. — У нас с ней дела.
— Это секрет? — жадно спросил я.
— Еще какой, — ответил он.
На меня вдруг накатила слабость, будто псалмы перевалили за пятьдесят стихов; как ни странно (обычно взрослые насчет таких вещей ужасно тупы), он это заметил и тут же сказал:
— У вас вид — совсем никуда. Сядьте и поднимите ногу. Вон табурет. Диванов у меня нет, что поделаешь. — Он усадил меня на стул. — Я недолго, — добавил он.
Но вышло долго. Он достал бутылку черно-синих чернил «Стивенс» (у него даже не было чернильницы), лист писчей линованной бумаги и принялся старательно писать. Ручка терялась в его больших пальцах.
— Может, лучше передать на словах? — предложил я.
Он с прищуром глянул на меня.
— Вы не поймете, — сказал он.
Наконец письмо было готово. Он сунул его в конверт, лизнул края клапана и прижал его кулаком, словно утюгом. Я протянул руку, но письма не получил.
— Только наедине, — напомнил он. — Иначе вообще не передавайте.
— Что же тогда с ним делать?
— Суньте туда, где дергают за цепочку.
С одной стороны эта фраза вызвала у меня отвращение — ведь я уже видел свою миссию в романтическом свете; но с другой — я оценил практичность фермера, осторожность не помешает. Интриги — это была моя стихия.
— Все будет сделано, как надо, — заверил его я.
Ну, теперь-то он отдаст мне письмо? Но он все держал его под стиснутым кулаком, словно лев, охранявший что-то сильной лапой.
— Так, вы меня не подведете, без обмана? — снова засомневался он.
— Конечно, без обмана. — Я даже обиделся.
— Потому что, — медленно произнес он, — если это письмо попадет в чужие руки, придется худо ей, мне, а может, и вам: