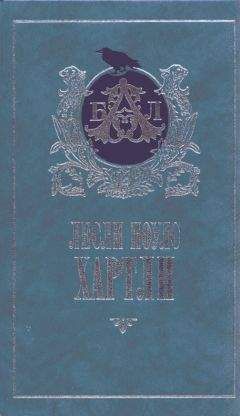— Ты считаешь? — спросила миссис Модсли. — Он предан тебе, как барашек из песенки.
— Он прелесть, — согласилась Мариан. — Но пойми, ведь он ребенок, долго выдерживать общество взрослых ему просто не под силу.
— Ладно, я спрошу, что он об этом думает, — сказала миссис Модлси. — Сейчас вместе с ним нас тринадцать — впрочем, это ерунда. С Маркусом не повезло — вот что плохо.
— Если у Маркуса корь, — беззаботно проговорила Мариан, — бал, наверное, придется отменить.
— Не вижу причин. — В голосе миссис Модсли звучала решимость. — Столько народу огорчится. Да ведь и ты не хочешь его отменять, верно, Мариан?
Ответ Мариан я не расслышал, но понял: нашла коса на камень. Попритворявшись еще немного, я осторожно открыл глаза. Мариан с матерью куда-то ушли; гости стояли неподалеку и разговаривали; в тени ждали своего часа два экипажа; лошади вскидывали головы и помахивали хвостами, отгоняя мух. Почти надо мной, распрямившись на козлах, маячили кучера; их шелковые шляпы с кокардами почти касались густой листвы, и темные тона в тени казались еще более глубокими. Я немного последил за игрой теней — здорово! Потом как можно незаметнее поднялся, в надежде избежать изобличения; но лорд Тримингем меня увидел.
— Ага! — воскликнул он. — В свободное от работы время Меркурий решил прикорнуть.
Я улыбнулся ему. Было в нем что-то надежное, незыблемое. С ним было спокойно, я чувствовал: что я ни скажу, что ни сделаю, его мнение обо мне все равно не изменится. Его шутки и подковырки никогда не казались мне докучливыми: отчасти потому, конечно, что он все-таки был виконт, но уважение вызывала и его самодисциплина. Поводов для смеха у него, как я считал, было не так много — и все-таки он смеялся. За его веселостью стояла больница и поле битвы. Я чувствовал в нем огромную силу, способную выдержать любые удары судьбы.
И все-таки, трясясь на козлах (рядом сидел лакей) по дороге домой, я заметил (хотя не желал себе в этом признаться), что простой и бесхитростный разговор с кучером был мне более по душе, чем пустяковая, бессмысленная и бесконечная болтовня, под которую я благополучно заснул на пикнике. Мне нравилось давать и получать сведения, и кучер поставлял их, подобно дорожным указателям и каменным столбикам с цифрами-милями, возникавшими каждые несколько минут, — я ждал их, словно манны небесной. Иногда он не мог ответить на мой вопрос.
— Почему в Норфолке так много объездных дорог? — спросил я. — В наших краях их вовсе нет.
Тут он спасовал, но вообще-то у него почти на все был ответ, и я чувствовал — от разговора с кучером есть хоть какой-то толк. А с ними мне не за что было ухватиться: тонюсенькие призрачные нити то и дело обрывались, и мой мозг уставал. Разговор богов! — что ж, я не понимал его, но не переживал из-за этого, не злился. Я был самой маленькой планетой, и вполне нормально, что, выполняя поручения богов, не все понимал: ведь боги говорили на незнакомом языке — языке звезд.
Ниже меня, под мозаичной крышей из зонтиков скрывалось и несколько мужских канотье. До моего слуха донесся гул разговора, — этот костер никогда не гас! — но я считал, что не обязан поддерживать его. Поначалу я немного огорчился, когда Мариан предложила впредь не брать меня в такие поездки, но теперь понял — это она для моей же пользы, то и дело в мозгу вспыхивало: «Он прелесть», я ощущал эти слова сладким привкусом во рту. Конечно, ездить с ними — это было престижно; мне нравилась наша триумфальная процессия: прохожие останавливаются поглазеть на коляски, дети бегут открывать ворота, а потом ползают на четвереньках по земле, подбирая пенсы, небрежно брошенные кучером. Но живые фигуры Зодиака и весь сопутствовавший им блеск возникали в моем сознании не менее (а то и более) ярко, когда я был вдали от них; тогда со мной оставалась самая суть впечатлений — не нужно было следить за собой и делать заинтересованное лицо по любому поводу. Зато в моем распоряжении были сараи на задворках усадьбы, место для купания, скирда, с которой теперь я мог съезжать сколько душе угодно, — и даже мусорная свалка. Эти места теребили во мне какие-то струны, и хотелось оказаться там снова.
— А вы знаете Теда Берджеса? — спросил я кучера.
— Ну, как же, — ответил он. — Мы все здесь его знаем.
Что-то в его тоне заставило меня спросить:
— А он вам нравится?
— Мы же все соседи, — уклонился кучер от прямого ответа. — Мистер Берджес — малый неплохой.
Я отметил про себя «мистера», но расплывчатый конец фразы меня разочаровал. Менее всего Тед Берджес казался мне «малым».
Наконец мы добрались до места, которого я ждал с особым нетерпением, — перед нами был овраг, настоящий овраг, единственная достопримечательность дороги. Неясными очертаниями возник предупреждающий знак, но вот он надвинулся на нас, и я прочитал:
Велосипедист
Будь осторожен
Мне это показалось забавным. Один велосипедист, значит, пусть будет осторожен, а если их несколько, могут ехать хоть задом наперед. Я попытался объяснить это кучеру, но он был занят торможением. Мы катились вниз, вихлявшие крупы потных лошадей терлись о щиток коляски. Я оглянулся — сзади таким же манером сползал второй экипаж. Тормоза нагревались, и распространялся едкий запах гари, но Бог знает по какой причине для моих ноздрей это был настоящий фимиам. Все вокруг напряглось, приближалась критическая минута — ощущения обострились до предела.
Наконец мы добрались до дна оврага, и обе коляски остановились. Теперь предстоял подъем — процесс менее волнующий, менее чреватый опасностью, но почти столь же зрелищный; кучера ослабили поводья, а мужчины спрыгнули на землю, чтобы лошадям было легче. Во мне всколыхнулась волна человечности: я тоже запросился сойти.
— Да что с вами, что без вас — какая разница? — небрежно заметил кучер, к моей досаде, но все равно помог мне сойти по крохотным подрагивающим ступенькам, на которых, того и гляди, поскользнешься. Я оказался в одной шеренге с мужчинами и пошел, стараясь подладиться под их длинные шаги.
— А тебе, я смотрю, жара нипочем, честное слово! — воскликнул лорд Тримингем, прикладывая к лицу шелковый платок. Он был в белом полотняном костюме, а на голове, в отличие от остальных, красовалась панама, прикрепленная к пиджаку черным шнурком с пуговичкой — исключительно элегантная, как и вся его одежда; возможно, это бросалось в глаза по контрасту с его лицом. — По-моему, такой жары еще не было.
Я прошел несколько шагов с напыщенным видом — для меня, мол, это сущие пустяки; но его слова запомнил, и, когда мы снова заняли свои места, а лошади затряслись обычной неспешной рысью, моя любовь к жаре проснулась. А вдруг температура сегодня побьет рекорд? Ну, что ей стоит? Вот было бы здорово. Я обожал явления исключительные, ради них был готов поступиться всем привычным и обыденным.
Первым делом по возвращении я намеревался сбегать к домику для дичи; но мне помешали. Во-первых, нас уже ждал чай, во-вторых, с дневной почтой пришло письмо от мамы. «Норидж, Брэндем-Холл, миссис Модсли, для Лео Колстона». Я с гордостью взглянул на адрес: да, вот где я нахожусь.
Читать мамино письмо мне хотелось в полном уединении: даже домик для такого дела был слишком на виду. Иногда я прятался в туалете, но сейчас это ни к чему — в отдельной комнате никто не застанет меня врасплох. Туда я и направил стопы — так спешит в конуру собака, разжившаяся костью, — но оказалось, что мамино письмо не очень интересует меня; такое было в первый раз. Я читал о мелких домашних заботах, однако они совсем не захватывали меня, не приближали к родным местам — наоборот, оставались мелкими и далекими. Они были словно картинки волшебного фонаря, но не хватало самого фонаря, и они не оживали. Я чувствовал, что место мое не там, оно здесь, это здесь я был пусть маленькой, но планетой, и передавал послания для других планет. Мамины причитания насчет жары казались пустячными и даже немного раздражали меня; как же она не понимает, что жара — это мое счастье и не может причинить мне страданий, вообще ничто не может причинить мне страданий...
С собой мама дала мне черный кожаный несессер для письменных принадлежностей, в его верхний правый угол была вделана чернильница. Я взялся сочинять ответ, но, оказалось, душа моя порхает где-то далеко. Когда я писал из школы, все было иначе: свои письма я так редактировал и сокращал, что в конце концов почти ничего не оставалось, кроме сообщения о том, что я здоров, чего и ей желаю. Сейчас мне хотелось рассказать о моем новом положении, о том, до каких высот я здесь поднялся, каким божественным воздухом дышу. Увы, усилия оказались бесплодными. Виконт Тримингем сказал, что я подобен Меркурию — выполняю поручения, — сестра Маркуса Мариан все так же очень добра ко мне, пожалуй, она нравится мне больше остальных — жаль, что она собирается замуж, зато она станет виконтессой; что же это значит для нее и что — для меня, почему из-за этого я расту в собственных глазах? Обо всем этом я так или иначе написал, сообщил и о болезни Маркуса (но не сказал, что подозревают корь); рассказал обо всех празднествах, прошедших и предстоящих — пикники, крикетный матч, день рождения, бал; поблагодарил за полученное разрешение купаться и обещал не лазить в воду, если поблизости нет взрослых; и остался ее любящим сыном. Но даже это последнее звучало фальшиво, с какой-то нотой снисходительности, будто избранник богов соглашался признать, что родственные узы связывают его с простым смертным.