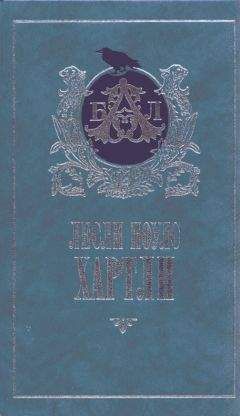— Что же, наверное, придется идти, — согласилась она. — Погоняла безжалостный, вот ты кто! Только я пойду одна, если ты не против.
Я был против, еще как против!
— Ну хоть скажите им, что это я вас послал, ладно? — взмолился я.
Она оглянулась и хитро посмотрела на меня.
— Может, и скажу.
Со вторника по субботу — день крикетного матча — я трижды выполнял роль связного между Мариан и Тедом Берджесом: три записки от нее, одну от него и еще два устных сообщения от него.
— Скажите ей, что годится, — передал он в первый раз; а в другой: — Скажите, что ничего не выйдет.
Найти его не составляло труда: он всегда работал в полях, где поспел урожай, на том берегу реки; его было видно с мостков возле шлюза. В первый раз Тед ехал на жатке, новомодной машине, которая срезала пшеницу, но не вязала ее в снопы; кажется, она называлась «Скачущий маятник». Я пошел рядом, и когда между нами и тремя-четырьмя работниками, вязавшими снопы, оказалась неубранная пшеница, он остановил лошадь, и я передал ему письмо.
На следующий день неубранный участок заметно уменьшился: Тед с ружьем в руках стоял у края нескошенной пшеницы и ждал: сейчас из нее выскочат кролики или другие зверьки, обычно они цепляются за свои жилища до последней секунды. Я так увлекся этим зрелищем, что даже забыл о письме, а Тед стоял, сощурив глаза, тоже захваченный азартом.
Ведь этот последний оплот наверняка набит дичью! Однако я ошибся: упали последние стебли, но никакая живность не появилась.
Один из работников отогнал жатку к воротам, которые вели на другое поле. Остальные, повернувшись к нам спиной, потянулись к изгороди за своими куртками и плетеными корзинами. Мы с Тедом Берджесом остались одни.
Обработанное поле выглядело совершенно плоским, возвышалась над ним лишь фигура фермера. Он был одного оттенка с пшеницей — рыже-золотистые тона, — и я на миг представил, что это стоит сноп, сейчас вернется жатка и скосит его.
Я передал ему конверт, и он тотчас его надорвал; тут я понял, что перед моим приходом он какую-то зверушку убил — к моему ужасу, на конверте, а потом и на письме появились вязкие пятна крови.
— Ой, не надо! — воскликнул я, но он даже не повернул головы, весь ушел в чтение.
В мой третий приход в поле его не было, он оказался на ферме, тогда и дал письменный ответ.
— На сей раз обойдемся без крови, — пошутил он, и я засмеялся, ибо вид крови помимо страха вызвал у меня какой-то трепетный восторг, я понимал, что это часть мужской жизни, которая неизбежно придет ко мне. Я вдоволь накатался со скирды; собственно, со скирды я катался все три раза, что носил письма. Катанье было кульминацией, и, возвращаясь к чаю, я с чистой совестью говорил собравшимся, что именно этим и занимался после обеда.
Это были во многих отношениях золотые денечки, и лишь когда в четверг после завтрака миссис Модсли, зазвав меня в «штаб» (кто-то дал этой комнате такое прозвище), сообщила: сегодня они едут обедать в дом, где есть дети, поэтому я поеду с ними — лишь побывав на этом обеде, я понял, как была права Мариан, говоря, что в Холле мне будет лучше. Растопить лед между детьми — дело не простое, сходятся они трудно, каждый живет в своем маленьком мирке, у каждого свои игры и тайны. Я даже не мог толком запомнить правила игры — все думал о том, какую важную работу оставил недоделанной. Выдумки других детей казались мне какими-то пресными, кровопролитием здесь и не пахло.
Ибо к своим обязанностям Меркурия я относился очень серьезно, все-таки мне доверили тайну, но главное даже не в этом — я чувствовал, что сослужить Мариан эту службу могу только я, и никто другой. Со своими взрослыми друзьями она болтала для времяпрепровождения; она улыбалась лорду Тримингему, сидела рядом с ним за столом и прогуливалась по террасе; но лишь когда она передавала мне записки, в ней вспыхивала заинтересованность, не проявлявшаяся с другими, даже с самим лордом Тримингемом — несмотря на молодость, я это замечал. Приносить ей пользу было для меня бесконечным счастьем, и я не задумывался, что за всем этим стоит. Правда, своей курьерской деятельности я давал собственное объяснение, и даже не одно, потому что остановиться на каком-то одном не мог. Даже в мире моего воображения не рождалось четкой гипотезы о том, почему Мариан и Тед Берджес что-то передают друг другу. «Дела», — вот было их слово, и для меня за ним крылось нечто весьма серьезное, почти священное; мама всегда произносила его с благоговением: оно было связано с пребыванием отца на службе, с его заработком. Мариан в заработке не нуждалась, зато Тед — да; возможно, она ему помогает; возможно, каким-то таинственным способом записки эти обращаются в деньги и попадают к нему в карман. А может, в конвертах и есть деньги: чеки или банкноты, поэтому он и сказал: «Годится», то есть деньги получил. Я дрожал от возбуждения при мысли о том, что ношу деньги, словно инкассатор, что на меня могут устроить засаду и ограбить; значит, я пользуюсь безграничным доверием Мариан, коли она доверяет мне такие ценные бумаги!
Но во все это я верил лишь наполовину, потому что банкнотов в конверте ни разу не видел. Может, она сообщает ему что-то полезное для работы на ферме? Трудно было такое представить, но ведь я ничего не смыслил в сельском хозяйстве. Или делится с ним какими-то сведениями, к примеру, о температуре, у нее есть возможность каждый день смотреть на термометр, а у него — нет. Последние дни температура хоть и была ниже, чем в понедельник, но держалась на достойном уровне: во вторник — восемьдесят три, в среду — восемьдесят пять, в четверг и пятницу — около девяноста двух. (Любопытство заставило меня сверить мои цифры с официальными источниками, и разница оказалась совсем небольшая.) Если дело не в температуре, значит, в чем-то другом, интересном для взрослых, но вполне доступном моему сознанию — лишь бы объяснили. Может, они делают какие-то ставки: я знал, что взрослые это любят. Может, они спорили, когда будет убрано какое-нибудь поле.
А вдруг он попал в беду, и она пытается вызволить его? Допустим, его разыскивает полиция, и она хочет спасти ему жизнь? Что, если он совершил убийство (тут передо мной возникали его руки в пятнах крови)? Кроме нее, об этом никто не знает, и она сообщает ему о действиях полиции.
Последний вариант устраивал меня больше всего — тут попахивало сенсацией. Но и не устраивал, ибо, когда я наблюдал за ним или за ней в минуту отправления или получения записки, становилось ясно, что эта догадка ничуть не лучше других. Мне казалось, что в придуманных мною обстоятельствах люди ведут себя иначе.
За инстинктивным желанием найти удовлетворительное объяснение крылось разъедающее душу любопытство, которого я наполовину стыдился: а какова же все-таки правда? Но искать ее я не пытался. Мне вовсе не хотелось играть в шпиона; мне не требовались мелкие доказательства моей даровитости, я уважал себя в десять раз больше прежнего уже за то, что связан с движением небесных тел. Подспудно смущало меня и другое: а вдруг истинная причина меня разочарует? Так оно и вышло.
В пятницу, за день до крикетного матча, произошли два события, в некотором смысле связанные друг с другом. Прежде всего слухи о кори оказались несостоятельными, с Маркуса сняли все обвинения, и он сошел вниз. Выходить на воздух ему не разрешили, но дали понять, что пойти на крикет он сможет. Я, конечно, знал, что ему стало лучше, и все же его появление было для меня неожиданностью: в то утро температура у него упала до нормальной в первый раз, меня мама обязательно подержала бы в постели еще день-два. Я считал, что все врачи лечат по одной системе. Но, увидев Маркуса, я очень обрадовался, мы не были близкими друзьями, однако с ним я чувствовал себя в своей тарелке, а это стоит многого. С ним можно было поделиться сокровенными мыслями на понятном нам языке; слова мои не нуждались в переводе, да и мне не приходилось барахтаться в мудреных высказываниях взрослых. Во всяком случае, так мне казалось. Мы сидели рядом и бойко болтали, не замечая никого вокруг; и вдруг где-то в середине обеда до меня дошло, каковы будут последствия его возвращения к обычной жизни.
Доставлять записки я больше не смогу. Заниматься подпольными делами, когда ты предоставлен самому себе, — это одно. Идешь куда хочешь, если тебя о чем и спрашивают, то больше для вида, и когда на вопрос: «Что сегодня делал?» — я отвечал, что катался со скирды, все были довольны. А вот Маркуса на мякине не проведешь — эти серые невыразительные глаза подмечали гораздо больше, чем казалось. Ко всякого рода придумкам он по сравнению со мной не проявлял особого интереса, почти не жил в воображаемом мире; он играл со мной в лорда Робертса или Китченера, Крюгера или Де Вета[17], но только недолго и при условии, что победа будет на стороне англичан: он был рьяный патриот, к тому же не любил поддерживать слабую сторону. Я мог поделиться с ним многим, но уж никак не фантазией, что я — это Робин Гуд, а его сестра — дева Марианна.