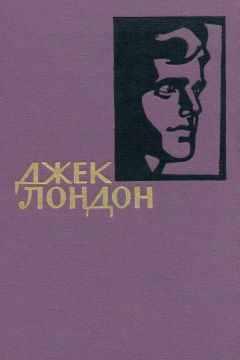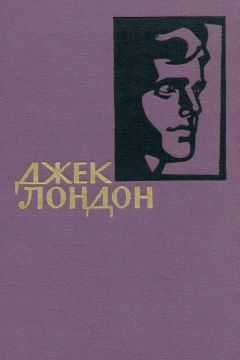— Радость творчества,— вставил я.
— Вероятно, так это называется. Еще один из способов проявления радости жизни, торжества движения над материей, живого над мертвым, гордость закваски, чувствующей, что она бродит.
Я всплеснул руками, беспомощно протестуя против его закоренелого материализма, и принялся застилать койку. Он продолжал наносить линии и цифры на чертеж. Это требовало чрезвычайной осторожности и точности, и я поражался, как ему удается умерять свою силищу при исполнении столь тонкой работы.
Кончив заправлять койку, я невольно засмотрелся на него. Он был, несомненно, красив,— настоящей мужской красотой. Снова я с удивлением отметил, что в его лице нет ничего злобного или порочного. Можно было поклясться, что человек этот не способен на зло. Но я боюсь быть превратно понятым. Я хочу сказать только, что это было лицо человека, никогда не идущего вразрез со своей совестью, или же человека, вовсе лишенного совести. И я склоняюсь к последнему предположению. Это был великолепный образчик атавизма — человек настолько примитивный, что в нем как бы воскрес его первобытный предок, живший на земле задолго до развития нравственного начала в людях. Он не был аморален,— к нему было просто неприменимо понятие морали.
Как я уже сказал, его лицо отличалось мужественной красотой. Оно было гладко выбрито, и каждая черта выделялась четко, как у камеи. От солнца и соленой морской воды кожа его потемнела и стала бронзовой, и это придавало его красоте дикарский вид, напоминая о долгой и упорной борьбе со стихиями. Полные губы были очерчены твердо и даже резко, что характерно скорее для тонких губ. В таких же твердых и резких линиях подбородка, носа и скул чувствовалась свирепая неукротимость самца. Нос напоминал орлиный клюв,— в нем было что-то хищное и властное. Его нельзя было назвать греческим — для этого он был слишком массивен, а для римского — слишком тонок. Все лицо в целом производило впечатление свирепости и силы, но тень извечной меланхолии, лежавшая на нем, углубляла складки вокруг рта и морщины на лбу и придавала ему какое-то величие и законченность.
Итак, я поймал себя на том, что стоял и праздно изучал Ларсена. Трудно передать, как глубоко интересовал меня этот человек. Кто он? Что он за существо? Как сложился этот характер? Казалось, в нем были заложены неисчерпаемые возможности..Почему же оставался он безвестным капитаном какой-то, зверобойной шхуны, прославившимся среди охотников только своей необычайной жестокостью?
Мое любопытство прорвалось наружу целым потоком слов.
— Почему вы не совершили ничего значительного? Заложенная в вас сила могла бы поднять такого, как вы, ка любую высоту. Лишенный совести и нравственных устоев, вы могли бы положить себе под ноги мир. А я вижу вас здесь, в расцвете сил, которые скоро пойдут на убыль. Вы ведете безвестное и отвратительное существование, охотитесь на морских животных, которые нужны только для удовлетворения тщеславия женщин, погрязших в свинстве, по вашим же собственным словам. Вы ведете жизнь, в которой нет абсолютно ничего высокого. Почему же при всей вашей удивительной силе вы ничего не совершили? Ничто не могло остановить вас или помешать вам. В чем же дело? У вас не было честолюбия? Или вы пали жертвой какого-то соблазна? В чем дело? В чем дело?
Когда я заговорил, он поднял на меня глаза и спокойно ждал конца моей вспышки. Наконец я умолк, запыхавшийся и смущенный. Помолчав минуту, словно собираясь с мыслями, он сказал:
— Хэмп, знаете ли вы притчу о сеятеле, который вышел на ниву? Ну-ка, припомните: «Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, его обожгло, и, не имея корня, оно засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его».
— Ну, и что же? — сказал я.
— Что же? — насмешливо переспросил он.— Да ничего хорошего. Я был одним из этих семян.
Он наклонился над чертежом и снова принялся за работу. Я закончил уборку и взялся уже за ручку двери, но он вдруг окликнул меня:
— Хэмп, если вы посмотрите на карту западного берега Норвегии, вы найдете там залив, называемый Ромсдаль-фьорд. Я родился в ста милях оттуда. Но я не норвежец. Я датчанин. Мои родители оба были датчане, и я до сих пор не знаю, как они попали в это унылое место на западном берегу Норвегии. Они никогда не говорили об этом. Во всем остальном в их жизни не было никаких тайн. Это были бедные неграмотные люди, и их отцы и деды были такие же простые неграмотные люди, пахари моря, посылавшие своих сыновей из поколения в поколение бороздить волны морские, как повелось с незапамятных времен. Вот и все, больше мне нечего рассказать.
— Нет, не все,— возразил я.— Ваша история все еще темна для меня.
— Что же еще я могу рассказать вам? — сказал он мрачно и со злобой.— О перенесенных в детстве лишениях? О скудной жизни, когда нечего есть, кроме рыбы? О том, как я, едва научившись ползать, выходил с рыбаками в море? О моих братьях, которые один за другим уходили в море и больше не возвращались? О том, как я, не умея ни читать, ни писать, десятилетним юнгою плавал на старых каботажных судах? О грубой пище и еще более грубом обращении, когда пинки и побои с утра и на сон грядущий заменяют слова, а страх, ненависть и боль — единственное, что питает душу? Я не люблю вспоминать об этом! Эти воспоминания и сейчас приводят меня в бешенство. Я мог бы убить кое-кого из этих каботажных шкиперов, когда стал взрослым, да только судьба закинула меня в другие края. Не так давно я побывал там, но, к сожалению, все шкиперы поумирали, кроме одного. Он был штурманом, когда я был юнгою, и стал капитаном к тому времени, когда мы встретились вновь. Я оставил его калекой; он никогда уже больше не сможет ходить.
— Вы не посещали школы, а между тем прочли Спенсера и Дарвина. Как же вы научились читать и писать?
— На английских торговых судах. В двенадцать лет я был кают-юнгой, в четырнадцать — юнгой, в шестнадцать — матросом, в семнадцать — старшим матросом и первым забиякой на баке. Беспредельные надежды и беспредельное одиночество, никакой помощи, никакого сочувствия,— я до всего дошел сам: сам учился навигации и математике, естественным! наукам и литературе. А к чему все это? Чтобы в расцвете сил, как вы изволили выразиться, когда жизнь моя начинает понемногу клониться к закату, стать хозяином шхуны? Жалкое достижение, не правда ли? И когда солнце встало — меня обожгло, и я засох, так как рос без корней.
— Но история знает рабов, достигших порфиры,— заметил я.
— История отмечает также благоприятные обстоятельства, способствовавшие такому возвышению,— мрачно возразил он.— Никто не создает эти обстоятельства сам. Все великие люди просто умели ловить счастье за хвост. Так было и с Корсиканцем. И я носился с не менее великими мечтами. И не упустил бы благоприятной возможности, но она мне так и не представилась. Терние выросло и задушило меня. Могу вам сказать, Хэмп, что ни одна душа на свете, кроме моего братца, не знает обо мне того, что знаете теперь вы.
— А где ваш брат? Что он делает?
— Он хозяин промыслового парохода «Македония» и охотится на котиков. Мы, вероятно, встретимся с ним у берегов Японии. Его называют Смерть Ларсен.
— Смерть Ларсен? — невольно вырвалось у меня.— Он похож на вас?
— Не очень. Он просто тупая скотина. В нем, как и во мне, много... много...
— Зверского? — подсказал я.
— Вот именно, благодарю вас. В нем не меньше зверского, чем во мне, но он едва умеет читать и писать.
— И никогда не философствует о жизни? — добавил я.
— О нет,— ответил Волк Ларсен с горечью.— И в этом его счастье. Он слишком занят жизнью, чтобы думать о ней. Я сделал ошибку, когда впервые открыл книгу.
«Призрак» достиг самой южной точки той дуги, которую он описывает по Тихому океану, и уже начинает забирать к северо-западу, держа курс, как говорят, на какой-то уединенный островок, где мы должны запастись пресной водой, прежде чем направиться бить котиков к берегам Японии. Охотники упражняются в стрельбе из винтовок и дробовиков, а матросы готовят паруса для шлюпок, обивают весла кожей и обматывает уключины плетенкой, чтобы бесшумно подкрадываться к котикам,— вообще «наводят глянец», по выражению Лича.
Рука у Лича, кстати сказать, заживает, но шрам, как видно, останется на всю жизнь. Томас Магрйдж боится этого парня до смерти и, как стемнеет, не решается носа высунуть на палубу. На баке то и дело вспыхивают ссоры. Луис говорит, что кто-то наушничает капитану на матросов, и двоим доносчикам уже здорово накостыляли шею. Луис боится, что Джонсону, гребцу из одной с ним шлюпки, несдобровать. Джонсон говорит все слишком уж напрямик, и раза два у него уже были столкновения с Волком Ларсеном из-за того, что тот неправильно произносит его фамилию. А Иогансена он как-то вечером изрядно поколотил, и с тех пор помощник не коверкает больше его фамилии. Но смешно думать, чтобы Джонсон мог поколотить Волка Ларсена.