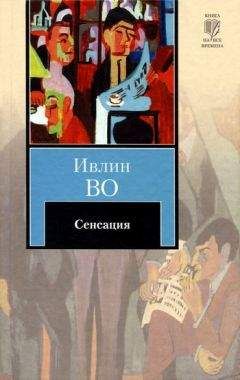— В понедельник после обеда обязательно…
— Давай спать посменно, — предложил О'Пара, — и слушать. Может, он говорит во сне.
— Ты, конечно, полистал его блокнот?
— Бесполезно. Он никогда ничего не записывает.
Палеолог в отчаянии вскинул руки.
— Скажи, чтобы его бой показал тебе телеграмму, когда понесет ее на радиостанцию.
— Мистер Шамбл всегда относит телеграммы сам.
— Тогда узнавай как хочешь. Иди, я занят.
Шамбл сидел в баре, излучая загадочность. В течение вечера все по очереди подсаживались к нему, предлагали виски и невзначай вспоминали о когда-то оказанных услугах. Но он хранил молчание. Слух дошел даже до шведа, и он явился в гостиницу.
— Шомбол, — сказал он, — говорят, вы имеете хорошие новости.
— Я? — сказал Шамбл. — Если бы!
— Но, простите меня, все говорят, что вы имеете хорошие новости. Я должен телеграфировать моим газетам в Скандинавии. Пожалуйста, скажите мне, какие у вас новости.
— Я ничего не знаю, Эрик.
— Очень жаль. Я давно не посылал в мою газету хорошие новости.
И, сев на мотоцикл, грустный швед уехал в дождь.
Однажды на банкете, устроенном в его честь, сэр Джоселин Хитчкок скромно сказал, что своим немалым успехом в жизни обязан привычке «вставать чуть раньше других». Отчасти это была фигура речи, отчасти ложь, а кроме того, это вообще не имело значения, поскольку журналисты, как правило, встают поздно. В Англии Шамбл, О'Пара, Свинти или Коркер утром редко добирались до ванной раньше десяти часов в тех лежбищах, которые они звали домом. То же о них можно было бы сказать и в Джексонбурге, хотя в «Либерти» не было ванных, но в тот день они проснулись на рассвете.
Тому было много причин: сердцебиение, тошнота, сухость во рту, резь в глазах, псевдопохмелье, вызванное разреженным горным воздухом, обычное похмелье, имевшее те же симптомы, поскольку накануне вечером все они, испытывая разные чувства, одинаково напились, спаивая Шамбла, но главной причиной были строительные дефекты здания. Дождь начался одновременно с восходом солнца, а в каждой комнате из железной крыши где-нибудь да текло. Дождь пробудил к жизни пишущую машинку Венлока Джейкса, ион принялся отстукивать на ней очередную главу «Под горностаевой мантией». Вскоре мрачные коридоры огласились криками: «Бой!», «Воды!», «Кофе!».
Приехавшие раньше других Шамбл, О'Пара и Свинти могли получить, как, например, французы, отдельные номера, но они предпочитали жить вместе, чтобы легче было друг за другом присматривать. У киношников выбор был небогат. К их приезду свободными оставались только два номера. Один из них занял директор-координатор по первичным контактам и связям, другой достался всем остальным.
— Бой! — кричал Коркер, стоя босыми ногами на сухой половице лестничной площадки.
— Бой! — кричал О'Пара.
— Бой! — кричали французы. — Это неслыханно! Здесь обслуживают только англичан и американцев!
— Их подкупили. Я видел, как Шамбл вчера давал деньги одному из слуг.
— Мы должны заявить протест.
— Я уже заявил.
— Мы снова должны заявить протест. Мы должны устроить демонстрацию.
— Бой! Бой! Бой! — кричали все, но никто не шел.
В пристройке сэр Джоселин Хитчкок надел поверх пижамы плащ и, как кот, юркнул в кусты.
Наконец появился Палеолог с утренним донесением. На лестничной площадке он повстречал Коркера.
— В этой стране вам нужен собственный бой, — сказал он.
— Да, — сказал Коркер, — похоже, ты прав.
— Я вам найду боя. Очень хорошего, из адвентистской миссии, все умеет, читает, пишет, говорит по-английски, поет псалмы.
— Умереть можно!
— Что?
— Не важно. Не имеет значения. Пришли его ко мне.
Таким образом Палеолог обеспечил слугами всех прибывших. Коридоры заполнили круглолицые, миссионерской выучки эсмаильцы. У них было много обязанностей. Утром и вечером они должны были давать секретной полиции отчет о поведении своих хозяев. Они должны были красть копии хозяйских телеграмм для Венлока Джейкса. Обычно слуга получал доллар в неделю. Журналисты платили пять, но разницу Палеолог забирал себе. Слуги тоже не теряли времени даром и то и дело требовали денег вперед — на новую одежду, похороны, свадьбы, штрафы и несуществующие муниципальные налоги. Палеолог узнавал о том, сколько им удавалось добыть, и изымал свою долю.
В спальне было темно, сыро, из щелей дуло. Снаружи стучал, шумел, топотал, цокал и булькал дождь. Одежда Коркера валялась по всей комнате. Коркер сидел на кровати, размешивая в чае сгущенное молоко.
— Пора подниматься, старина, — сказал он.
— Да.
— Кажется, мы все вчера набрались.
— Да.
— Гнусно тебе?
— Да.
— Встанешь — пройдет. Тебе мои вещи мешают?
— Да.
Коркер раскурил трубку, и комнату наполнило отвратительное зловоние.
— Так себе табачок, — сказал он. — Местный. Купил у какого-то негра. Хочешь попробовать?
— Нет, спасибо, — сказал Уильям и нетвердо поднялся. Пока они одевались, Коркер говорил с несвойственным ему пессимизмом:
— Я так работать не привык. Не люблю топтаться на месте. Надо наметить план действий, завести контакты, источники, взбодрить население — а то мне неуютно.
— Это вы моей зубной щеткой пользуетесь?
— Надеюсь, нет. У нее белая ручка?
— Да.
— Тогда это она. Ошибка вышла, моя зеленая… Так вот, я говорил, что нам нужно завести здесь друзей. Странная вещь, но я не чувствую, что мне тут рады. — Он изучающе смотрел на себя в единственное зеркало. — У тебя перхоти много?
— Не особенно.
— А у меня много. Говорят, это от повышенной кислотности. Мерзкая штука. Воротник все время как в пуху, а надо выглядеть тип-топ. Хорошая внешность — это все.
— Вы не возражаете, если я заберу свою расческу?
— Пожалуйста, старина, мне она больше не нужна… Между нами говоря, чего Шамблу всегда не хватало, так это приличной внешности. С другой стороны, люди всякому журналисту рады, даже Шамблу. А с этим городом что-то неладно. С нашей работой можно быть уверенным только в одном — в народной любви. Трудностей у нас хватает, само собой, зато все нас любят и уважают. Звони людям в любое время, вламывайся к ним в дом, задавай самые идиотские вопросы, когда им вовсе не до тебя, — им это нравится. Раз ты из газеты, тебе все улыбаются, все рады. А тут я этого не чувствую. Тут все наоборот. Я спрашиваю себя: «Коркер, тебя тут знают? любят? уважают?» И сам себе отвечаю: «Нет».
Раздался стук в дверь, почти не различимый в общем шуме, и вошел Свинти.
— Привет, ребята. Телеграмма Коркеру. Пришла вчера вечером. Извини, что открыта. Ее отдали мне, а я не заметил, кому она.
— Да ну? — сказал Коркер.
— A-а, в ней все равно ничего нет. Шамбл молчит.
Коркер прочитал:
ПРОЕКТ ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖАНДАРМЕРИЕЙ ПРОВЕРЬТЕ РЕАКЦИЮ БРЕД.
— Я вижу, они там без новостей совсем дошли. Что такое жандармерия?
— Полиция, попросту говоря, — сказал Свинти.
— Да, пока что идут беспросветные будни. Но все равно, надо что-то делать. Пошли со мной… Может, растрясем кого? — добавил он без особой надежды в голосе.
Миссис Пэр Рассел Джексон сидела в баре.
— Доброе утро, мадам, — сказал Коркер. — Как вы себя сегодня чувствуете?
— Я болю, — просто и с достоинством ответила миссис Джексон. — Вся болю в заду.
— Прессу интересует ваше мнение по некоторым вопросам, миссис Джексон.
— Ничего не знаю. Крышу будут починять скоро. Пресса вы или кто, им все равно.
— Видишь, старина, я же говорю: нам тут не рады. — И, вновь повернувшись к миссис Джексон, он почтительно сказал: — Вы меня не так поняли, миссис Джексон. Мы решились побеспокоить вас в связи с событиями общественной важности. Что думают женщины Эсмаилии о предложении ввести сюда силы международной полиции?
Миссис Джексон вопрос очень не понравился.
— Зачем называешь меня женщиной у меня в доме? И полиции тут никогда не было, только раз, я сама привела, когда один клиент стал ку-ку и повесился.
И она негодующе удалилась в холл, чтобы успокоиться в качалке.
— Пламенная патриотка, — сказал Коркер, — старейшина джексонбургских матрон возмущена предлагаемым проектом, нарушающим святость и неприкосновенность эсмаильского очага… но я к такому обращению не привык.
Они подошли к входной двери и кликнули такси. Во дворе их скопилось с полдюжины. Водители, уютно завернувшись в мокрые одеяла, дремали на передних сиденьях. Гостиничный охранник ткнул одного из них дулом ружья. Мокрый тюк вздрогнул, из него появилось черное лицо, затем ослепительная улыбка. Машина завиляла по грязи.