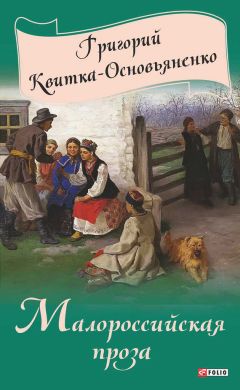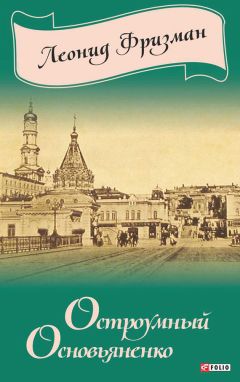Наум только покачал головой, обтер слезу рукавом, да и опять потупил голову и молчит. Староста говорит:
– Может, старая мать это все умничает.
– О, батюшки мои! – тотчас отвечала старая Настя. – Я ли бы не хотела счастья своему дитяти? Ведь она моя утроба! Да и где нам лучше Василя сыскать? Он малой разумный, покорный; всяк бы нам позавидовал. Так разве же я не жена своему мужу, чтоб могла его не слушать? У нас идет по-божьему да по-старосветски: он мне закон, а не я ему; отчего же он не отдает, я не знаю, он всегда любил Василя. Говори, Наум, что ты это делаешь?
Тут снова приступили и дети плачучи, и старая Настя рыдаючи, и старосты кланяючись, да знай просят Наума…
Молчал он, молчал, только знай слезы глотает. После встал, вздохнул горестно, перекрестился перед Господом милосердым да и говорит:
– Одна у меня на свете радость – моя Марусенька! Каждый день молюсь, чтобы она была счастлива; так как же, помолившись об одном, сам буду делать другое; молившись об ее счастье, сам буду ее топить. Прощайте, панове-сватове! Коли хотите, то вправду выкушайте по чарке; когда же нет, то извините, дайте и мне покой, потому что… Ох не хотелось было этого говорить, да вы меня разжалобили!.. Потому что мне очень жаль, что лишаюсь Василя, да нечего делать. Прощайте, люди добрые, идите себе, не прогневайтесь!
Тут опять все приступили к нему, что когда, говорят, любишь Василя, так почему не отдаешь за него Маруси? Маруся же так и повисла отцу на шею и обмывает его слезами; а Василь тоже припал на колена, да горько плачет, да все просит.
– Але! Зачем не отдаю? – сказал Наум, вздохнувши. – Потому что жаль своего рождения. Не тотчас; при таком важном деле, как есть сватовство, не можно всего говорить. Приди, Василь, завтра, да сам, без людей; вот тут я тебе все расскажу. Больше нечего и говорить, прощайте! Вот вам и хлеб ваш святой!
Хотели ли или не хотели, а, взявши свой хлеб, назад пошли из хаты с Василем; или так сказать, что повели его, потому что он сам не смог идти.
Остался Наум со своей семьею, сел себе и горюет. Маруся даже слегла от слез, а Настя, плачучи, сидела над нею и удивлялася: что это старому сделалося, что вдруг охулил Василя? Об ужине никто и не думал: некому было приготовлять, и никто не хотел ничего есть.
Вот сидел Наум, сидел, думал да думал, а после и отозвался:
– Полно плакать, Маруся! Встань да слушай, о чем я буду спрашивать. Наум был не тот отец, чтоб Маруся могла его не послушать. Смогла ли или не смогла, а когда отец говорит без шуток, да чуть ли еще и не сердит, так надо встать. Встала, отерла слезки и ждет, что он ей скажет.
– Ты, видно, знала Василя еще прежде, нежели я его привел?
– Знала, пан отченьку! – И затряслась, как осиновый листочек, и опустила свои долгие ресницы на глаза, чтоб не видел отец, как ей стало стыдно.
– Как же это было? – спросил он ее грозно.
Тут Маруся, хотя и с запинкою, а рассказала ему все: как увидела его в первый раз на свадьбе, как ей стало его жаль, как он гадал с нею орехами, как она его стыдилася, и все, как рассказала: как, и на рынок идучи, сошлися, как с рынка возвращалися, что говорили – и нельзя было правды скрыть – как и целовалися…
– Ну, ну! Что дальше? А начало хорошо! – говорит Наум, а сам и видно, что как на ножах сидит.
Вот Маруся, сплакнувши, смелее стала было рассказывать, как условилися с ним сойтися в бору на озерах, и как сошлись, и как…
– Полно, полно! – закричал не своим голосом, рассердившись, Наум, – то уже рассказывай матери, что не умела тебя беречь и от худа отводить! – А сам, схватив шапку, хотел было бежать из хаты, но Маруся так и вцепилася ему за шею и говорит:
– Нет, таточку! Нет, мой сизый голубчик! Не погубила себя твоя дочь и не погубит. Маточка моя родненькая! Лучше мне всякую муку принять; на смерть пойду, а не принесу тебе никакого бесчестья ни для какого пана, ни для какого генерала; я помню ваши молитвы; я знаю, что я ваша дочь: так можно ли, чтобы я на свою погибель шла? Вот как все дело было.
Тут она и рассказала, что себе с Василем говорила, и как у них там было, и как она запретила Василю ходить к себе, и для чего. Рассказала и то, как скучала и тужила без него. Все рассказала, как что было до последнего часа.
Наум еще-таки спросил:
– Смотри – полно, всему ли этому правда и не потаила ли ты чего?
– Всю правду вам сказала; и что ничего не потаила, так, когда велишь, тато, чтоб побожилась, то, как хочешь, так и побожуся.
– Великий грех, – говорит Наум, – божиться, а еще пуще, как напрасно; я же тебе и без божбы верю. Теперь слушай меня, Маруся! Не раз тебе говорил, что девкою тебе оставаться не можно, надо идти замуж. Приказывал тебе, что только кого полюбишь, тотчас скажи мне прямо: а я, рассмотрев, кто бы это был, так бы и оканчивал дело. Когда бы он мне не годился, то я сказал бы тебе: не надо, не знай его; а когда бы годился, то ему прежде всего сказал бы так, что и ты бы не знала: присылай, казак, за рушниками, потому чтобы пока до сговора, так чтоб не было у вас никакого жениханья[116], которое до добра не доводит. Счастье твое и наше с Настею, что Василь такой честный и богобоязливый; а другой, ты бы и не опомнилась, как навязал бы тебе камень на шею, что и вовек не избавилась бы от него, разве бы только с моста да в воду. Как бы я знал с самого начала об Василе, то я сказал бы тебе, почему не отдам за него, и ты не привязывалась бы так к нему, и легче тебе было бы его забывать. А теперь как знаешь, так и терпи, потому что не отдам.
Тут Маруся, как уже рассказала перед своими всю правду, то и стало ей на душе веселее и на сердце отраднее, то и начала снова просить отца, чтоб таки отдал за Василя, а что она хоть век будет сидеть в девках, а ни за кого не пойдет, кроме его.
– Говори! – сказал Наум. – А знаешь ты, голова, что отец видит твое счастье лучше, нежели ты? Ты молода, глупа! Ложися, девка, спать; завтра будешь старее, чем сегодня, а оттого и умнее. – Перекрестил ее и пошел себе от нее.
Ни свет ни заря, а Василь уже у Наума. То сяк, то так, пробыли до обеда. И варивши обед и подавши на стол, Маруся заливалася слезами, полагая, наверное, что в последний раз видит своего Василечка. Да, правду сказать, так и все невеселы сидели, а за обедом к блюдам никто и не принимался.
Вот как прибрали со стола, Наум и сказал жене и дочери:
– Идите себе или в комнату, или под комору на просторе шить; а нам тут с Василем не мешайте.
Вот как они вышли, Наум и говорит:
– Василь! Сядь-ка подле меня, да слушай, не прерывая, что я тебе скажу. Не за мою правду, потому что у меня, кроме грехов, нет ничего, а по отцовским и материнским молитвам наградил меня милосердый Бог женою доброю, трудолюбивою, покорною и несварливою. Родительского имущества мы с нею не растратили, а понемногу Бог благословляет, все добавляем. Велика милость Божия! Утро и вечер благодарю за его неоставление! Но наибольшая милость Божия к нам, грешным, в том, что наградил нас дочерью, да еще какою? Это не человек, это ангел святой!..
– Ох, правда, дядюшка… – прервал его Василь, а он его тотчас остановил и говорит:
– Перестань же, Василь, молчи, слушай и не прерывай меня. Это ты, видевши ее глаза, ее щеки и что она во всем собою красива, ты и хвалишь ее; а я не про тело ее, я говорю про душу ее. Она такая тихая, послушная; Бога небесного знает, и любит, и боится прогневать его; нас почитает и остерегается, сколько можно, чтоб ни в чем нас не прогневать. Сострадательна не то что к человеку, но и к малейшей козявочке. Худа никакого и по слуху не знает и боится самой мысли об нем. Как сама добра и незлобная, так и обо всех думает, всякому поверит, – и Бог ее сохранил, что она тебя, а не какого дурного человека полюбила; с другим пропала бы навеки веков. Да и ты ее, сердечную, сбил было с прямого пути; знаю все. Ох, грех так поступать!
– Дядюшка! – отозвался было Василь.
– Молчи, племянник, ты расскажешь после. Такое-то дитя нам дал милосердый Бог. Хотя я и отец ей, а не могу против правды говорить. Что ж мы называемся за родители, чтоб не пеклись о счастье своего дитяти? Я ж говорю, если бы она была и сяк и так, ну так бы и быть. А за ее доброту, за ее скромность, покорность нужно ей такого мужа, который был бы ей как отец; чтобы он любил ее, берег; чтоб – не дай бог! – если бы и случилось какое худо делом ли, или мыслию, – так он бы ее отводил, учил бы всему доброму, не допускал бы кому зря обижать ее; а скромную и смирную, как она, кто захочет, тот и обидит. Чем нас Бог в сем свете благословил, имуществом ли или скотом, все бы тут осталося зятю, потому что я хочу, когда Бог благословит, зятя принять к себе. Так это уже не чье, как мое дело, смотреть крепко, чтобы он был хозяин рачительный, чтобы хотя уже не растратил и не перевел, что примет от нас, и чтоб и ее не довел бы ни до какой нужды; а когда Бог благословит деточками, так чтоб и их через науку довести до пути и кое-что и им оставить. Теперь скажи мне, Василь, не правду ли я говорю?