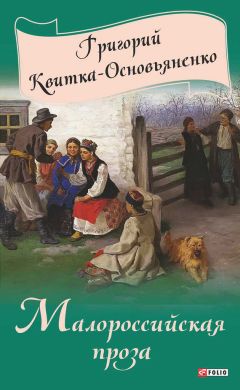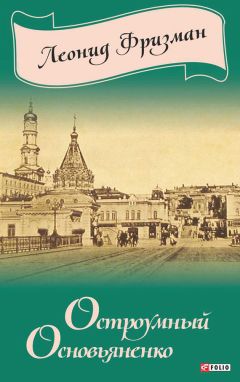Прислушивается Наум – Василь поет. Как же начал Херувимскую[128], так такую, что и сам дьяк не умел в лад взять; а Василь, без запинки, так все голоса и покрывает, и Переводы выводит, сам и кончает, сам опять и начинает. Тогда уже Наум совсем положился, что Василь стал грамотным.
«Да когда же выучился и где пребывал? Пускай, – думает себе, – после узнаю».
Как вышел священник с крестами святить паски и народ бросился из церкви, Наум остановил Василя да тотчас и говорит:
– Христос воскресе!
Вот, похристосовавшись с ним, как долг велит, и говорит ему Наум:
– Еще ты, Василь, нас не забыл?
– Пусть меня Бог забудет, если…
– Хорошо же, хорошо, сын! Теперь не до того. Приходи к нам разговеться; да хоть и пообедаешь, когда не пойдешь домой…
– Вы мне и дом, вы и родители…
– Хорошо же, хорошо. Приходи, не забудь; я буду ожидать. Сказавши это, Наум поспешил домой и дорогою думает себе:
«Не очень же я хорошо сделал, что, не расспросивши Василя, что он и что с ним, да и позвал его к себе. Может, он уже об Марусе и не думает, а может, и женат уже, а я только потревожу Марусю и снова раздражу тоску ее. Да хотя бы и не то, так, может, еще он не откупился от рекрутства, так что тогда делать? Да уже ж! Повижу. Даст Бог разговеться, а там буду поправлять, что напортил с радости, неожиданно увидев Василя, да еще и грамотного! Откуда ему Бог такую благодать послал? Правда: малой разумный, ему бы только дьячком быть».
С такой мыслию пришел домой и жене не говорит ничего, что кого он видел. Пришла и Маруся, и принесла все посвященное, и нужды нет! Потому что она, как не стояла в церкви, а при пасках, то и не видала Василя. Расставила все на столе, как должно, и приготовила, да и удивляется с матерью, что отец не садится разгавливаться, а ходит себе по хате да думает.
Как вот дверь – скрип! – и Василь в хату. Маруся так и не опомнилась, и крикнула не своим голосом:
– Ах, мой Василечку! – да и стала как вкопанная. Старая Настя тоже обрадовалась, как бог знает чему, и кинулась к Василю и похристосовалась. Вот Наум видит, что Василь с Марусею стоят и только поглядывают – он на нее, а она на него, как будто впервые отроду видятся; вот он и говорит им:
– Что же вы не христосуетесь? А Василь и говорит:
– Не смею, пан отче!
– Зачем не сметь? – говорит Наум. – Закон повелевает христосоваться с каждым и хотя бы со смертельным врагом. Похристосуйтесь же по закону трижды, да Боже вас сохрани от всякой нечистой мысли! Тяжкий грех в таком святом деле думать лукавое!
Вот и похристосовались как должно.
Маруся бросилась было к нему с расспросами:
– Где это ты, Василечку, был?..
– Знай же время, – прервал ее Наум, – одно что-нибудь – или разгавливаться, или говорить. Бог дал праздник и паску освященную. Благодаря Бога милосердого, надо разрешать без всяких хлопот и с веселою душою, а говорить будем после. Садитесь-ка, Господи, благослови!
Старая Настя села за столом на лавке, а Маруся подле нее с конца, чтоб ближе подавать. Василь сел на скамье, старик в переднем углу, батраки в конце стола. Вот Наум, перекрестившись и прочитав три раза «Христос воскресе из мертвых», тотчас отрезал освященной паски и перед каждым положил по куску. Вкусив ее осторожно, чтоб не рассыпать крошек под стол, всяк перекрестился и сказал:
– Благодарю Бога милосердого! Дай, Боже, и на тот год дождаться. Тут уже принялися за жареное: ели барашка, поросенка; а костей под стол не кидали, а клали на стол, чтоб после покидать в печь[129]. Потом ели колбасу, сало, нарезанное кусочками, и крашеных яиц, начистив, порезали на тарелке. Кончивши все это, Маруся все прибрала, и со стола тоже все бережно смела, и все крошки, кости и скорлупы бросила в печь, да тогда уже стала подавать блюда на стол.
Старый Наум выпил чарку горелки перед обедом, а Василь не пил, потому что, говорит, не начинал ее еще пить. Вот и подали борщ, и потом говядину из него порезали на деревянной тарелке, посолили, да и ели – уже известно, что не по-господски, потому что вилок не водится, а пальцами. Потом подали уху с рубцами; жаркое было баранина, а там молочная каша, да и полно, – больше и ничего.
Маруся вряд ли что и ела; ей лучше всякого разгавливанья, кроме праздника святого, то, что Василь возвратился, и жив, и здоров. Наклонясь за мать, чтобы не видал отец, как смотрела на своего Василечка, а сама будто ложкою берет из миски, лишь бы показать, что будто ест. Куда уже ей есть! У нее одно на мысли, как и у Василя! Так тот уже через силу ел, потому что подле Наума сидел и не можно ему было схитрить, чтоб хорошенько посмотреть на свою Марусю.
Пообедавши и поблагодаривши Бога и отца с матерью, когда прибрала все Маруся, вот Наум и говорит:
– А у нас новый дьяк сегодня читал Апостол. Настя тотчас и спрашивает:
– А кто такой и откуда?
– Вот он, пан Василь, – сказал Наум да и усмехнулся.
– Разве ж Василь грамотный, чтоб ему Апостол читать? – спросила Настя. А Маруся так уши и приготовила, чтобы слышать все, что будут говорить.
– Был неграмотный, а теперь ему Бог разум послал; а как и что? А и сам не знаю. Расскажи мне, сделай милость, Василь, как это тебе свет открылся? Это мне на удивление! Еще и году нет, как ты пошел от нас, а научился грамоте, и умеешь петь, как и сам дьяк. Где ты побывал?
– Я, дядюшка, не был очень далеко, – начал рассказывать Василь. – Вот как вы мне открыли свет и растолковали мне, что и я пропаду и чужой век заем, когда не сыщу за себя наемщика, то я думал, думал и чуть с ума не сошел. Правду вы говорили, какие деньги – восемьдесят рублей, которые я от хозяина получал! Только что на одежу. Что ж мне тут было делать? Как-то Бог послал на мысль: пойди к купцам, у них хороший заработок. Пришел я к торговцу железным товаром – он меня знал отчасти, – рассказал ему всю свою беду. Он, подумавши, принял меня за пятьдесят рублей на год с тем, что когда буду в своем деле исправен, то он мне и больше прибавит и все будет прибавлять, по мере моего старания. Я обрадовался, узнав, что, дабы выработать, ничего более не нужно, как только быть честным и свое дело исправлять, не ленясь. С товарищами, хоть и все москали были, тотчас поладил. Только вижу, что они все грамотные, и кто больше чего знает, больше получает и жалованья. Вот как сел, как сел – и правду вам, дядюшка, скажу, что ночь и день учился, и Бог послал мне дарование: и то-таки правду сказать, что нашего брата наткни хоть в науку, хоть в какое ремесло, то с него путь будет – не пропадут за него деньги. Вот-то я от Спасовки[130] да до Рождества выучился читать церковное и гражданское: писать мало умею; цифры знаю и на счетах, хоть тысяч десять пудов, враздробь на фунты безошибочно положу; фурщиков рассчитаю, и хозяйского добра берегу, как глаза, чтоб и копейка даром нигде не тратилась. Товарищи, знаете, охотники на клиросе петь вместо певческой; вот и меня, как заметили, что голос есть, то и приучили немного. Пока себя не поставил на путь, не шел к вам, дядюшка; и как ни тяжко мне было, не видевши Маруси, но помня ваше слово, сам себя морил и не ходил сюда. И тоже-таки, что хозяин, узнав мою честность, посылал меня не за великими делами по маленьким ярмаркам; а после Крещения посылал уже и дальше; и я только что перед праздником вот это привез ему большую сумму денег. Как же он меня потешил добрым словом и разбил мою тоску, то я уже смело и пришел сюда на праздник; а чтобы вы уверилися, что я не разбездельничался, вот и стал я на клиросе петь и Апостол прочитал.
Наум, выслушав его, не вытерпел и даже поцеловал его в голову, подумав:
«Вот милой парень! Недаром его люблю; такой не пропадет!»
Потом и спросил:
– Сколько же ты теперь получаешь жалованья?
– Жалованье не делает мне счету, – говорит Василь, – лишь бы стало на одежу; а то важнее всего, что хозяин, знавши мою нужду, чего я боюся и отчего вы не отдаете за меня Маруси, сам хлопочет обо мне; теперь посылает меня с фуром в Одессу, а оттуда пойду в Москву и на заводы, и только что к Успению ворочуся сюда; а он мне сыщет наемщика, говорит, хоть пятьсот рублей потеряю; осенью, как скажут набор, сам и отдаст, а деньги, говорит, будешь отслуживать.
– Пускай тебе Бог помогает! – сказал Наум, а потом, подумавши, и говорит: – Чего же больше думать? Послезавтра, во вторник, присылай людей за рушниками. И тебе в дороге будет веселее, и Маруся тут не будет грустить. Теперь нечего бояться. Это уже верно, что ты наемщика поставишь. Даст бог воротишься, осенью и свадьба.
Не можно и рассказать, как обрадовалися Василь и Маруся! Тотчас бросились к ногам отца, целуют их и руки ему целуют; сами обнимутся и снова к нему кинутся, и благодарят его; то к матери, то опять к нему; и не помнят себя, и что делать, не знают.
Долго смотрел на них Наум да все тихонько смеется и думает:
«То-то дети!»
После и говорит:
– Полно же, полно! Пустите же меня! Мы со старухою ляжем спать, потому что я всю ночь слушал Деяния[131] и стоял, пока дочитались до Христа; а вы, хотите, дома сидите или гулять идите к качелям, да только сами не качайтесь, потому что грех для такого праздника заниматься такою глупостью.