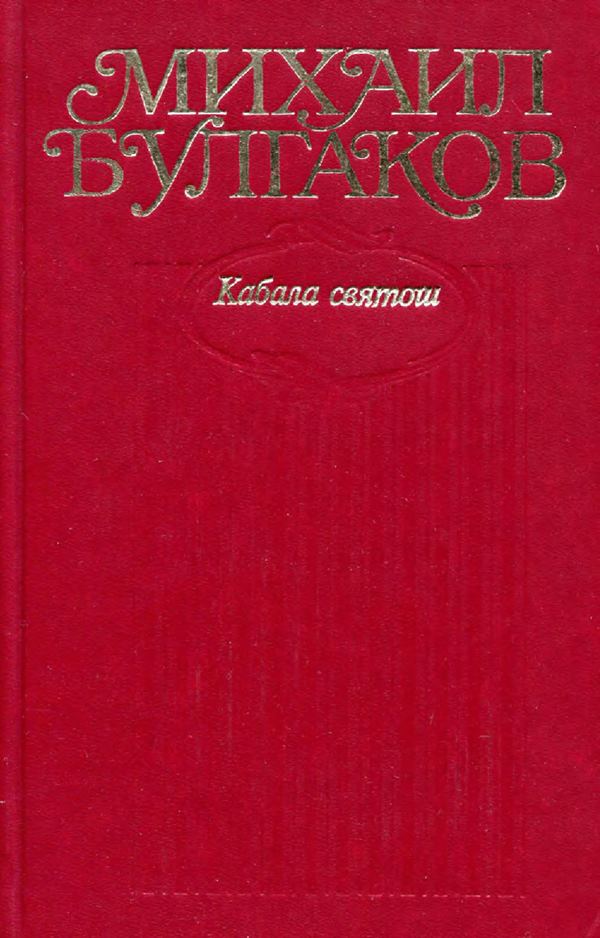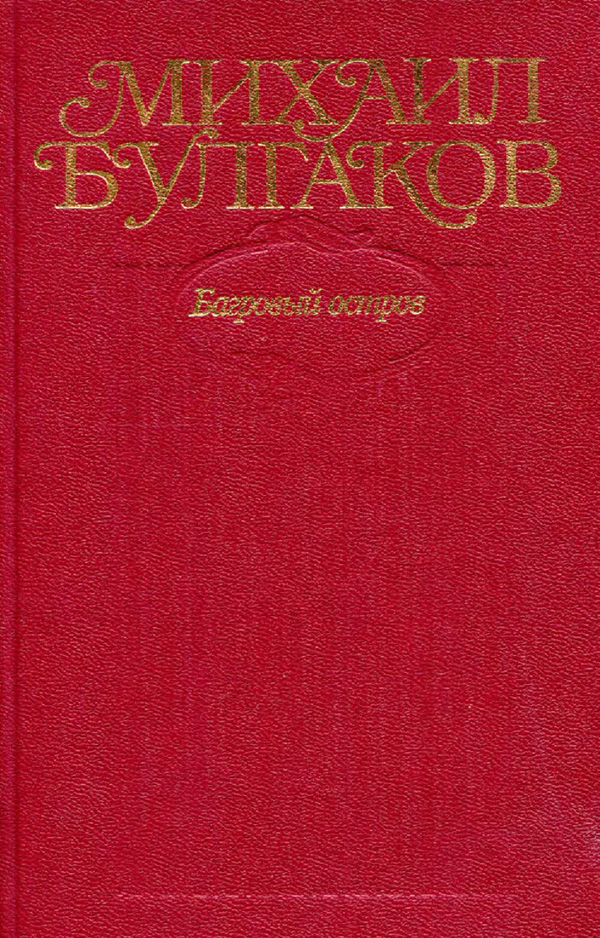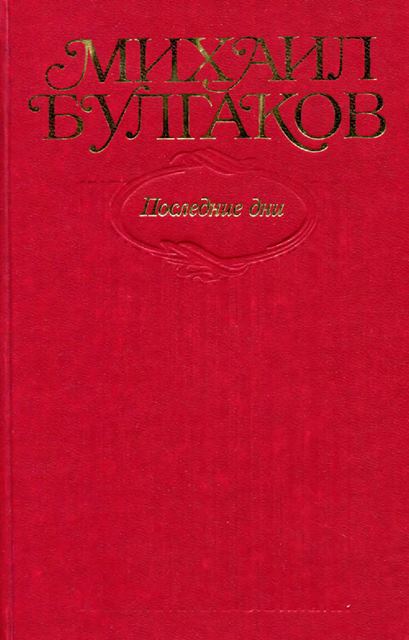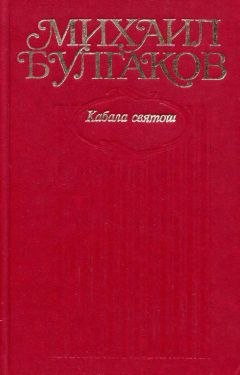в форточку.
— Вот, пожалуйста! — шепнул злобно и горько поэт.
Маргарита подошла к окошку и сурово спросила сующегося в окно человека:
— Чего тебе надо?
Голова изумилась.
— Богохульский дома?
— Никакого Богохульского здесь нет, — ответила грубым голосом Маргарита.
— Как это так нету, — растерянно спросили в форточке, — куда же он девался?
— Его Гепеу арестовало, — ответила строго Маргарита и прибавила: — А твоя фамилия как?
Сидящий за окном не ответил, как его фамилия, в комнате сразу посветлело, сапоги мелькнули в следующем окне, и стукнула калитка.
— Вот и все, — сказала Маргарита и повернулась к поэту.
— Нет, не все, — отозвался поэт, — через день, не позже, меня схватят. Кончу я жизнь свою в сумасшедшем доме или в тюрьме. И если сию минуту я не забудусь, у меня лопнет голова.
Он поник головой.
Маргарита прижалась к нему и заговорила нежно.
— Ты ни о чем не думай. Дело, видишь ли, в том, что в городе кутерьма. И пожары.
— Пожары?
— Пожары. Я подозреваю, что это они подожгли Москву. Так что им совершенно не до тебя.
— Я хочу есть.
Маргарита обрадовалась, стащила за руку поэта с кровати, накинула ему на плечи ветхий халат и указала на раскрытую дверь. Поэт, еще шатаясь, побрел в соседнюю комнатушку.
Шторы на окошках были откинуты, в них сочился последний майский свет. В форточки тянуло гниловатым беспокойным запахом прошлогодних опавших листьев с примесью чуть уловимой гари.
Стол был накрыт. Пар поднимался от вареного картофеля. Блестели серебряные кильки в продолговатой тарелке с цветочками.
— Ты решительно ни о чем не думай, а выпей водки, — заговорила Маргарита, усаживая любовника в алое кресло. Поэт протянул руку к темной серебряной стопке. Маргарита своей белой рукой поднесла ему кильку. Поэт глотнул воду жизни, и тотчас тепло распространилось по животу поэта.
11/IX.1934.
Он закусил килькой. И ему захотелось есть и жить. Маргарита налила ему вторую стопку, но выпить ее поэт не успел. За спиной его послышался гнусавый голос: — На здоровье!
Поэт вздрогнул, обернулся, так же как и Маргарита, и любовники увидели в дверях Азазелло.
Воланд в сопровождении свиты к закату солнца дошел до Девичьего Монастыря. Пряничные зубчатые башни заливало косыми лучами из-за изгибов Москвы-реки. По небу слабый ветер чуть подгонял облака.
Воланд не задерживался у Монастыря. Его внимание не привлекли ни хаос бесчисленных построек вокруг Монастыря, ни уже выстроенные белые громады, в окнах которых до боли в глазах пылали изломанные отражения солнца, ни суета людская на поворотном трамвайном круге у монастырской стены.
Город более не интересовал его гостя, и, сопровождаемый спутниками, он устремился вдаль — к Москве-реке.
Группа, в которой выделялся своим ростом Воланд, прошла мимо свалок по дороге, ведущей к переправе, и на ней исчезла.
Появилась она вновь через несколько секунд, но уже за рекой, у подножия Воробьевых гор. Там, на холме, к которому примыкала еще оголенная роща, группа остановилась, повернулась и посмотрела на город.
В глазах поднялись многоэтажные белые громады Зубовки, а за ними — башни Москвы. Но эти башни видны были в сизом тумане. Ниже тумана над Москвой расплывалась тяжелая туча дыма.
— Какое незабываемое зрелище! — воскликнул Бегемот, снимая шапчонку и вытирая жирный лоб.
Его пригласили помолчать.
Дымы зарождались в разных местах Москвы и были разного цвета. Между..........
Какая-то баба с узлом появилась выше стоящих на террасе над холмом.
— Удивительно неуютное место, — заметил Бегемот, осматриваясь, — как много всюду любопытных.
Азазелло, сердито покосившись, вынул парабеллум и выстрелил два раза по направлению группы подростков, целясь над головами. Подростки бросились бежать, и площадка опустела. Исчезла и баба наверху.
Тогда Воланд первый, взметнув черным плащом, вскочил на нетерпеливого коня, который и встал на дыбы. За ним легко взлетели на могучие спины Азазелло, Бегемот и Коровьев в своем дурацком наряде.
Холм задрожал под копытами нетерпеливых коней.
14/Х.34.
Но не успели всадники тронуться с места, как пятая лошадь грузно обрушилась на холм и фиолетовый всадник соскочил со спины. Он подошел к Воланду, и тот, прищурившись, наклонился к нему с лошади.
Коровьев и Бегемот сняли картузики, Азазелло поднял в виде приветствия руку, хмуро скосился на прилетевшего гонца. Лицо того, печальное и темное, было неподвижно, шевелились только губы. Он шептал Воланду.
Тут мощный бас Воланда разлетелся по всему холму.
— Очень хорошо, — говорил Воланд, — я с особенным удовольствием исполню волю пославшего. Исполню.
Печальный гонец отступил на шаг, голову наклонил, повернулся.
Он ухватился за золотые цепи, заменявшие повода, двинул ногу в стремя, вскочил, кольнул шпорами, взвился, исчез.
Воланд поманил пальцем Азазелло, тот подскочил к лошади и выслушал то, что негромко приказал ему Воланд. И слышны были только слова:
— В мгновение ока. Не задержи!
Азазелло скрылся из глаз.
Итак, Азазелло появился в маленькой комнатушке в тот момент, когда поэт подносил ко рту вторую стопку.
— Мир вам, — сказал гнусавый голос.
— Да это Азазелло! — вскричала, всмотревшись, Маргарита, — не волнуйся, мой друг! Это Азазелло. Он не причинит тебе никакого зла.
Поэт во все глаза глядел на диковинного рыжего, который, взяв кепку на отлет, кланялся, улыбаясь всею своей косой рожей...
Тут произошла суета, усаживание и потчевание. Маргарита Николаевна вдруг сообразила, что она совершенно голая, что ветхий халат, по сути дела, не прикрывает ее тела, и вскричала:
— Извините!
И запахнулась.
На это Азазелло ответил, что Маргарита Николаевна напрасно беспокоится, что он видел не только голых дам, но даже дам с содранной кожей, что все это ему не в диковинку, что он просит без церемонии, а что если будут церемониться, он уйдет немедленно...
Тут его стали усаживать в кресло, и он одним духом хватил чайный стакан водки, повторив, что, самое лучшее, если каждый чувствует себя без церемонии, что в этом и есть истинное счастье и настоящий шик. И чтобы подать пример другим, хлопнул и второй стакан, отчего его глаз загорелся как фонарь.
Поэту внезапный гость чрезвычайно понравился, поэт с ним чокнулся и приятно захмелел. Кровь быстрее пошла в его жилах, и страх отлетел. В комнате показалось и тепло и уютно, и он, нежно погладив рукой старенький вытертый плюш, вступил в беседу.
— Город горит, — сказал поэт Азазелло, пожимая