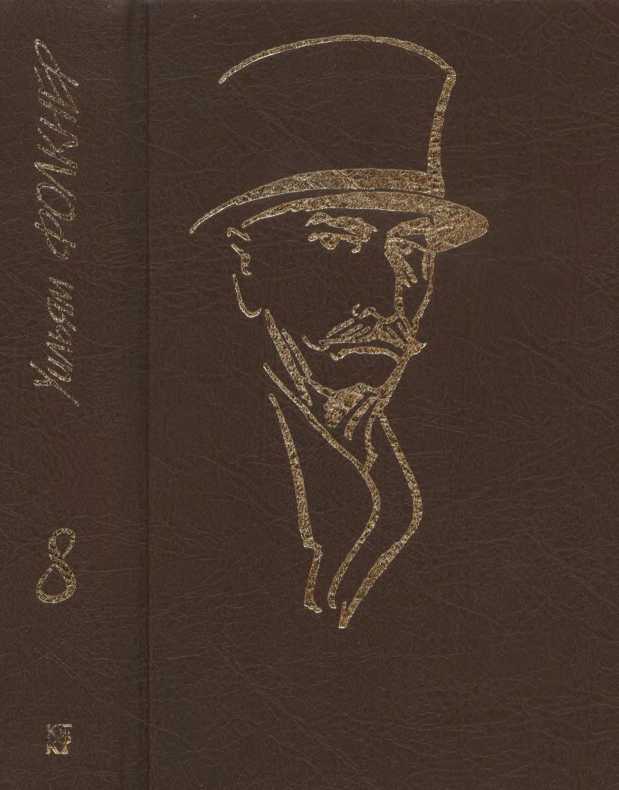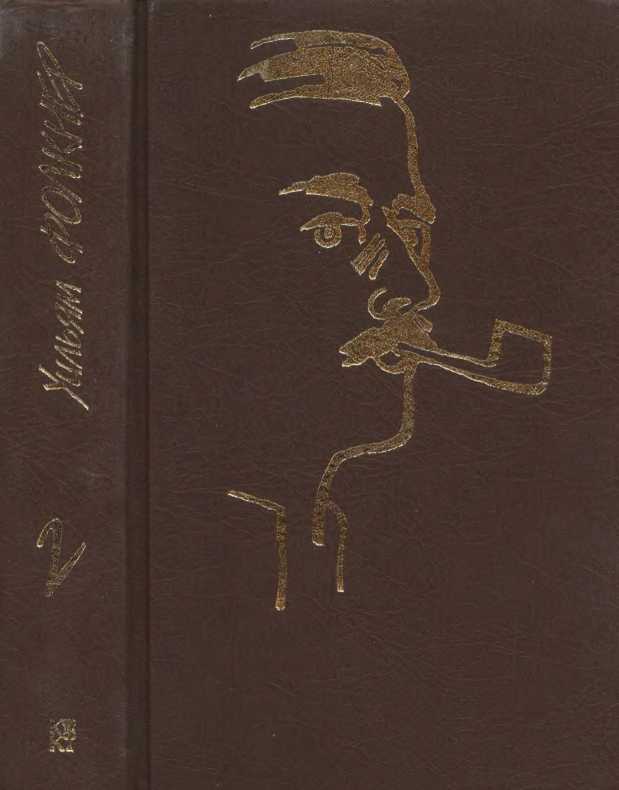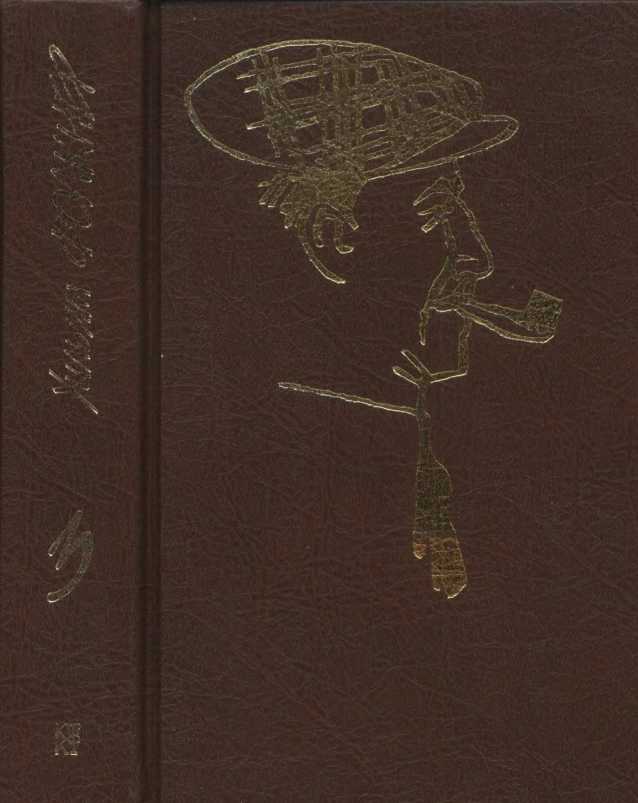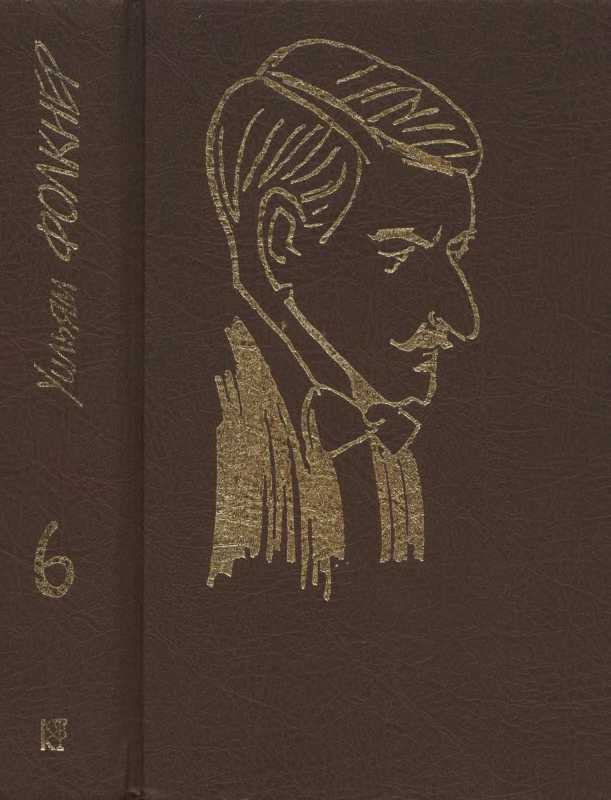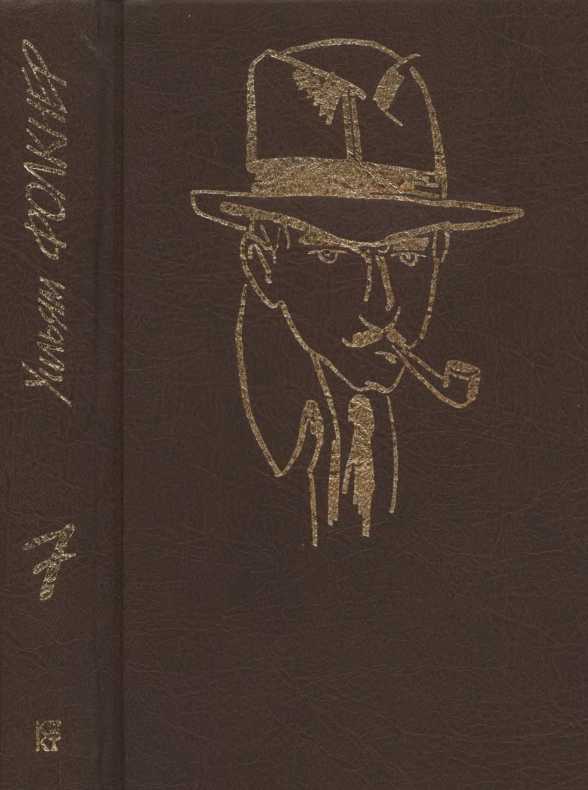и все, чем мне пришлось заплатить за освобождение». Он имеет в виду освобождение от прошлого, но Гэвин, чья задача заключается в том, чтобы Гоуэн понял масштаб своей ответственности за случившееся, объясняет ему, что нет такого понятия, как освобождение от прошлого, ибо прошлое и настоящее неразделимы в совести человека.
Что же касается Темпл, то она не хочет признать свою ответственность за то, что произошло. Ей хочется думать, что все люди «воняют», все испорчены, а если она сможет в это поверить, то у нее есть оправдание, что она сама испорчена. И когда Гэвин предлагает ей единственную альтернативу — идти в тот же вечер к губернатору и рассказать ему, Темпл спрашивает его — зачем? «Я вам уже сказал, — отвечает Гэвин. — Во имя правды». И тогда Темпл удивленно говорит: «Ах, какие пустяки! Сказать правду только для того, чтобы она была сказана, отчетливо, громким голосом, тем количеством слов, которые для этого потребуются? Только для того, чтобы она была сказана и услышана? Чтобы кто-то, неважно кто, ее услышал?» Но она понимает, чего добивается от нее Гэвин: «Зачем вы темните? Почему не сказать прямо, что это для блага моей души… Если она у меня есть».
Противостоит Темпл негритянка Нэнси, убившая ее дочку. «Она негритянка, — писал Фолкнер, — известная в городе пьяница и наркоманка, проститутка, которая уже бывала в тюрьме, у нее вечно были неприятности. Некоторое время назад она, казалось, исправилась и получила место няни в известной в городе молодой семье. Потом она однажды без всякой видимой причины убила ребенка. И теперь она даже не выказывает раскаяния. Она лишает адвоката всякой возможности спасти ее».
Нэнси нарушила закон, за что суд в Джефферсоне приговорил ее к смертной казни. Но Нэнси задолго до того, как она предстала перед судом, определила свою ответственность и смирилась с последствиями своего поступка. Что же касается Темпл, то она невиновна перед судом и законом, и никто, кроме нее самой, не может определить ее вину. Только она сама, ее собственная совесть.
По мере того как продвигалась работа над «Реквиемом по монахине», Фолкнер все явственнее ощущал, что драматургическая форма, избранная им, плохо ему поддается. Он писал Роберту Хаасу: «Закончил два акта моей пьесы. Больше, чем когда бы то ни было раньше, начинаю понимать, что не могу написать пьесу. Может быть, ее перепишет кто-нибудь, кто умеет это делать. А сейчас это получается роман. Может быть, мы издадим это сначала в виде книги».
В другом письме он опять возвращается к этому вопросу: «Мой вариант в завершенном виде будет представлять собой историю, рассказанную в семи драматических сценах внутри романа… Мой вариант напечатаем в виде книги, для меня это будет интересным экспериментом в смысле формы».
Все лето Фолкнер трудился над этой книгой. В конце июня он информировал Хааса: «Я закончил первый вариант истории пьесы и сейчас пишу три вступительные главы, которые соединят воедино все три акта». Впоследствии, отвечая на вопрос, откуда возникла столь необычная форма повествования, он говорил: «История этих людей укладывалась в жесткий, простой диалог. Остальное — я не знаю, как назвать эти интермедии, предисловия, преамбулы, — было необходимо, чтобы создать эффект контрапункта, который бывает при оркестровке. Мне казалось, что, когда жесткий диалог будет противостоять чему-то несколько абстрактному, он станет острее, более эффективным. Это не было экспериментированием, просто мне казалось, что это самый эффективный способ рассказать эту историю».
Когда спустя несколько лет студенты спросили Фолкнера, относится ли слово «монахиня» к Нэнси, Фолкнер сказал: «Да. Это трагическая жизнь проститутки, которую она вынуждена вести просто потому, что на это вынудило ее окружение, обстоятельства. Она была обречена на эту жизнь обстоятельствами, а не выбрала ее ради выгоды или удовольствия. И несмотря на это, она в меру своих жалких возможностей способна на акт — правильный он или нет, — являющийся полным религиозным самоотречением ради невинного ребенка. Это было парадоксально — использовать слово «монахиня» по отношению к ней, но мне казалось, что это добавляет что-то к ее трагедии».
Остается добавить, что работа Фолкнера над «Реквиемом по монахине» переплелась для него с влюбленностью в женщину. Летом 1949 года приятель по охотничьим экспедициям Джон Рид попросил Фолкнера принять племянницу его жены, приехавшую к ним в гости. Фолкнер ожидал встретить немолодую даму, председательницу какого-нибудь литературного клуба, движимую чистым любопытством, а увидел прелестную молодую девушку 21 года с зелеными глазами и рыжими волосами. Потом Джоанна Уильямс написала ему письмо, в котором признавалась, что ей хотелось познакомиться с писателем, книги которого так много говорят ее сердцу. Она писала, что давно решила стать писательницей и что один ее рассказ получил премию на конкурсе журнала «Мадемуазель».
Письмо было очень искреннее, и оно тронуло Фолкнера. «В Вашем письме, — написал он ей в ответ, — есть нечто очаровательное, напоминающее о молодости: запах, аромат, цветок, выросший не в саду, а, быть может, в лесу, на который наталкиваешься случайно, у которого нет прошлого, нет особого запаха и который уже обречен на первые морозы, пока через тридцать лет поношенный мужчина 50 лет уловит его запах или вспомнит о нем и тут же почувствует, что ему вновь 21 и он опять полон отваги, чист и жизнь еще впереди».
Джоанна прислала ему письмо с длинным списком вопросов, над разрешением которых, как она писала, она мучается. «Это неправильные вопросы, — ответил ей Фолкнер. — Женщина может задавать такие вопросы мужчине, когда они лежат вместе в постели… когда они лежат умиротворенные и, может быть, почти засыпают. Так что Вы должны подождать с такими вопросами».
В конце года пришло письмо от Джоанны, в котором она писала, что ей хотелось бы увидеться с ним. Фолкнер ответил ей осторожным письмом, где писал, что ему тоже хочется увидеть ее, но они должны избегать такой встречи, после которой «остался бы дурной вкус во рту». В конце концов он предложил ей приехать в Оксфорд и провести вместе с ним день на озере Сардис на борту его катера «Минмагари». После ее отъезда Фолкнер вдогонку послал Джоанне письмо, в котором признавался, что ему трудно писать о литературе, потому что когда перед ним лежит чистый лист бумаги, то его охватывает желание написать ей любовное письмо. Он вспоминал Пигмалиона, не того, который «создал холодную и прекрасную статую, чтобы влюбиться в нее, а Пигмалиона, вложившего в нее всю свою любовь и создавшего из нее поэта. Пойдете ли Вы на такой риск?»
Из их переписки видно, как постепенно в отношения учителя и ученицы вкрадывается