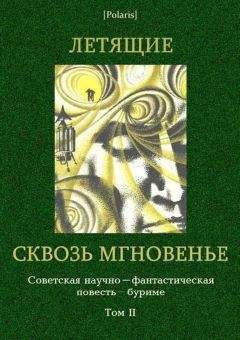— Позвольте, — говорил он, — я только что слышал об этом у герцогини де Мортмен.
— И кто же рассказал вам эту басню? Уж верно, женщина! — заметил художник.
— А вот и не угадали! Маркиз де Фарандаль.
— Ну, раз так, то я не удивлен, — поморщившись, сказал Бертен.
Наступило молчание. Графиня снова принялась за работу.
— Я отлично знаю, что это ложь, — более спокойно заговорил Оливье.
Он не знал ничего, он впервые слышал эту историю.
Чувствуя, что положение становится опасным, Мюзадье приготовился к отступлению и уже заговорил о том, что ему еще надо зайти к Корбелям, но тут показался граф де Гильруа, возвратившийся с какого-то обеда.
Бертен снова уселся: теперь его привело в отчаяние появление мужа, отделаться от которого было невозможно.
— Вы не знаете, что это за грандиозный скандал, о котором сейчас только и разговору? — спросил граф.
Так как ему никто не ответил, он продолжал:
— Кажется, Рокдиан застал свою жену во время предосудительного объяснения и вынудил ее дорого поплатиться за такую неосторожность.
Тут Бертен положил руку на колено Гильруа и с расстроенным видом, с печалью в голосе, в мягких, дружеских словах повторил все, что несколько минут назад он как бы бросил в лицо Мюзадье.
И граф, наполовину убежденный, злясь на себя за то, что так необдуманно повторял сомнительные, а быть может, и ложные слухи, стал оправдываться неосведомленностью и нежеланием обидеть кого бы то ни было. В самом деле, мало ли распространяют у нас нелепых и злых сплетен!
Неожиданно все согласились с тем, что свет клеймит, подозревает и клевещет с прискорбным легкомыслием. И в течение пяти минут все четверо, казалось, были убеждены в том, что всякий слух, передаваемый шепотком, есть не что иное, как клевета, что у женщин вообще не бывает именно тех любовников, которых им приписывают, что мужчины вообще не совершают тех подлостей, в которых их обвиняют, и что на вид всегда все кажется значительно неопрятнее, чем оно есть на самом деле.
Бертен перестал сердиться на Мюзадье, как только пришел Гильруа, наговорил ему уйму приятных вещей и, наведя инспектора изящных искусств на его излюбленные темы, открыл шлюз его красноречию. И граф, видимо, был этим доволен, как человек, который всюду приносит с собой умиротворение и дружелюбие.
Неслышно ступая по коврам, появились два лакея — они несли чайный столик; на нем, в ярко блестевшем красивом кипятильнике, над голубым пламенем спиртовой лампы, клокотала вода, от которой шел пар.
Графиня встала, приготовила горячий напиток с той заботливостью и с теми предосторожностями, какие завезли к нам русские, протянула одну чашку Мюзадье, другую — Бертену и принесла тарелки, на которых были сандвичи с жирным печеночным паштетом и мелкое австрийское и английское печенье.
Граф подошел к передвижному столику, где выстроились сиропы, ликеры и стаканы, сделал себе грог, а потом незаметно скользнул в соседнюю комнату и исчез.
Бертен снова очутился лицом к лицу с Мюзадье, и внезапно его опять охватило желание вытолкать за дверь этого несносного человека, а тот, как нарочно, воодушевился и принялся болтать, сыпать анекдотами, повторять чужие остроты и изобретать свои. Художник то и дело смотрел на стенные часы, большая стрелка которых приближалась к полуночи. Графиня заметила эти взгляды, и, поняв, что он хочет с нею поговорить, она, с ловкостью светской женщины, способной, легко модулируя из тона в тон, менять и тему разговора, и атмосферу в гостиной и, не говоря ни слова, дать понять гостю, следует ему остаться или же уйти, одной своей позой, выражением лица и скучающим взором распространила вокруг себя такой холод, словно распахнула окно.
Мюзадье почувствовал этот порыв сквозного ветра, леденящего его мысли, и, сам не зная почему, ощутил желание встать и уйти.
Бертен из приличия последовал его примеру. Мужчины откланялись и прошли обе гостиные в сопровождении графини, разговаривавшей с художником. Она задержала его на пороге прихожей, чтобы о чем-то спросить, а Мюзадье тем временем с помощью лакея надевал пальто. Так как графиня де Гильруа разговаривала только с Бертеном, инспектор изящных искусств подождал несколько секунд у двери на лестницу, распахнутую другим слугой, и решил выйти один, чтобы не стоять перед лакеем.
Дверь тихо затворилась за ним, и графиня непринужденно сказала художнику:
— А вы почему так рано уходите? Еще нет и двенадцати. Побудьте немного.
И они вернулись в малую гостиную.
— Боже, как злил меня этот скот! — сказал Оливье, как только они сели.
— Да чем же?
— Он отнимал у меня частицу вас.
— О, совсем маленькую!
— Пусть так, но он мне мешал.
— Вы ревнуете?
— Считать человека лишним еще не значит ревновать.
Он снова опустился в низенькое креслице и, сидя совсем рядом с ней, перебирая пальцами ее платье, рассказал ей о том, какое теплое дуновение коснулось сегодня его сердца.
Она слушала с удивлением, с восторгом и, тихонько положив руку на его белые волосы, нежно гладила их, словно желая поблагодарить его.
— Как бы я хотел жить подле вас! — сказал он.
Он все время думал о муже, который, конечно, уже спал в соседней комнате.
— Только брак воистину соединяет две жизни, — прибавил он.
— Бедный друг мой! — прошептала она, преисполненная жалости к нему и к себе самой.
Прижавшись лицом к коленям графини, он смотрел на нее с нежностью, с чуть печальной, чуть скорбной нежностью, уже не столь пылкой, как только что, когда его отделяли от нее дочь, муж и Мюзадье.
— Боже! Да вы совсем седой! — с улыбкой сказала она, слегка поглаживая пальцами голову Оливье. — У вас не осталось ни одного черного волоса.
— Увы! Я знаю, это происходит быстро.
Она испугалась, что огорчила его.
— Да ведь вы начали седеть совсем молодым! Я помню, вы всегда были с проседью.
— Да, верно.
Желая окончательно уничтожить налет грусти, вызванной ее словами, она наклонилась и, обеими руками приподняв его голову, принялась покрывать его лицо долгими и нежными поцелуями, теми длительными поцелуями, которым, кажется, нет конца.
Потом они посмотрели друг другу в глаза, стремясь увидеть в их глубине отражение своего чувства.
— Я хотел бы провести возле вас целый день, — сказал он.
Невыразимая потребность близости причиняла ему тупую боль.
Только что он думал: стоит уйти людям, находившимся в этой гостиной, и желание, пробудившееся в нем утром, осуществится, но вот теперь, оставшись со своей любовницей наедине, чувствуя лбом тепло ее рук, а щекой — сквозь платье — тепло ее тела, он вновь ощутил в себе ту же тревогу, ту же тоску по любви — любви неведомой и ускользающей.
И сейчас ему казалось, что за стенами этого дома, где-то в лесу — там они останутся совсем одни, и никого подле них не будет — его волнение уляжется, и сердце обретет покой.
— Какой вы еще ребенок! — сказала она. — Мы же видимся почти каждый день!
Он стал умолять ее найти способ поехать позавтракать с ним куда-нибудь за город, как они завтракали когда-то раз пять.
Ее удивлял этот каприз: ведь его так трудно было исполнить теперь, когда вернулась ее дочь!
Конечно, она все равно постарается это устроить, когда муж уедет в Ронсьер, но только после открытия вернисажа, которое состоится в следующую субботу.
— А до тех пор когда я увижу вас? — спросил он.
— Завтра вечером у Корбелей. Потом, если вы свободны, приходите ко мне в четверг в три часа, а еще, по-моему, в пятницу, мы должны вместе обедать у герцогини.
— Да, совершенно верно.
Он встал.
— Прощайте!
— Прощайте, друг мой!
Он все еще стоял, не решаясь уйти: он так и не сумел выразить почти ничего из того, что хотел сказать ей, и грудь его, которая по-прежнему была полна невысказанными чувствами, теснили смутные ощущения, не нашедшие себе выхода.
— Прощайте! — повторил он, взяв ее за руки.
— Прощайте, мой друг!
— Я люблю вас.
Она бросила ему одну из тех улыбок, какими женщина в одно мгновенье показывает мужчине все, что она отдала ему.
С трепещущим сердцем он повторил в третий раз:
— Прощайте!
И ушел.
Можно было подумать, что все парижские экипажи совершали в этот день паломничество ко Дворцу промышленности. С девяти часов утра съезжались они по всем улицам, по всем авеню и мостам к этому рынку изящных искусств, куда Весь-Париж художников пригласил Весь-Светский-Париж на так называемое «покрытие лаком»[13] трех тысяч четырехсот картин.
Огромная очередь теснилась у дверей и, не обращая ни малейшего внимания на скульптуру, устремлялась прямо наверх, в картинную галерею. Поднимаясь по ступеням, посетители уже поднимали глаза на полотна, развешанные на стенах лестницы, где помещают особую категорию живописцев, которых, как правило, вешают в вестибюле: они выставляют либо картины необычных размеров, либо картины, которые почему-либо не посмели отвергнуть.