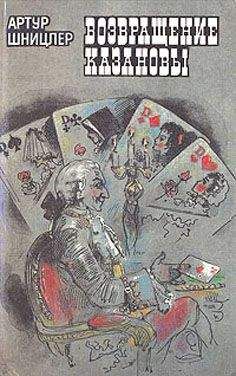Раздался звонок — его вызывали на сцену. Роланд поднялся, вышел в коридор и медленно спустился по деревянным ступенькам. Вот он за кулисами. Какие-то хористы поздоровались с ним. Роланд сделал еще несколько шагов и остановился у самой двери, через которую должен был выйти на сцену. Он слушал, как поет Бландини, и ждал своей реплики... Так... Вот она; стоявший возле него помощник режиссера подал знак, двое рабочих открыли двери, и Роланд вышел на сцену. Оказалось, слишком рано. Помощник режиссера раньше времени дал знак открыть двери. Потому что раздались громкие аплодисменты, которые относились, конечно, к Бландини. «Ее любят все больше и больше, — подумал он. — Всего несколько тактов — и такие аплодисменты!.. » Когда же они утихнут? Роланд невольно взглянул на Бландини, которая сначала смотрела в публику, а теперь обернулась к нему. Он услышал ее шепот:
— Вы понимаете, что это?..
Между тем аплодисменты все усиливались. Роланд посмотрел на галерею... Вдруг ему показалось, что он ясно слышит сквозь крики «браво» свое имя... Ах, он, конечно, ослышался.
Бландини спросила:
— Вы слышите?
Роланд ответил:
— Да.
— Ваше имя, — сказала Бландини.
Аплодисменты продолжались с прежней силой.
И крики: «Роланд» — становились все громче. — «Что это? — подумал Роланд. — Я сошел с ума? Или это сон?»
— Говорите, — шепнула Бландини.
— Что? — спросил растерянно Роланд.
— Ну, свои слова... про ожерелье.
И Роланд начал:
— Прекрасная дама... это ожерелье... Но слова утонули в шуме. Аплодисменты продолжались; в нескольких местах зашикали было, но от этого они стали еще более бурными.
— Венки, — сказала Бландини.
И Роланд, в полном убеждении, что они предназначены Бландини, поспешил к рампе, наклонился и принял огромный лавровый венок, который хотел тут же передать певице. Но она шепнула:
— Это вам.
Он не понял ее, но, взглянув на ленты, увидел свое имя. Секунду в душе его происходило что-то ему самому непонятное; он думал: «Я великий артист. Это видят все, хотя роль у меня совсем пустяковая», — он машинально взял в левую руку одну из лент и прочитал: «Гениальному миму Роланду благодарные современники». И вдруг он услышал в зале громкий хохот; он выронил ленту и посмотрел в публику; он увидел тысячи высоко поднятых, аплодирующих рук; лица сияли от удовольствия... Он ничего не понимал. Смех становился все громче и громче. И вдруг он понял. Ему хотелось упасть и спрятать лицо: над ним же смеются... шута из него сделали... Публика пришла в неистовое веселье от этой выдумки — чествовать его, господина Фридриха Роланда. Он чувствовал: вот он и достиг вершины славы... он чувствовал это так глубоко, что ничего не видел и не слышал, и смотрел в беснующуюся толпу, как в пустоту и безмолвие. И вдруг, словно покоренный его взглядом, зал в самом деле затих. Он вспомнил, что еще не подал своей реплики; а может, это Бландини шепнула ему. Твердым голосом и спокойно глядя в лицо певице, он произнес: — Прекрасная дама, это ожерелье вам господин мой посылает.
Бландини взяла ожерелье и долго-долго смотрела на него; он невольно подумал: «В прежних спектаклях у нее этого нюанса не было», — и спросил себя: «Почему?» Вдруг она сказала:
— Не обращайте внимания.
Теперь он заметил, что опять заиграл оркестр; кончились вступительные такты арии; Бландини надо было начинать, она запела. Ария была бесконечно длинная. Роланд стоял у двери и слушал хорошо знакомую мелодию, а Бландини все пела и пела; казалось, она поет уже целую вечность. Роланд не чувствовал ничего, кроме плавного покачивания сцены и бессмысленного жужжания тысячи тонких голосов; но ария Бландини лилась звонко, словно хотела вырваться за эти стены — туда, на волю, и Роланду казалось, что ее можно услышать сейчас во всем мире, надо только прислушаться. Как хорошо, что она поет так долго... Он боялся окончания арии; он помнил гром аплодисментов и этот хохот тогда, до начала арии. Это, наверное, опять повторится... Он чувствовал, что должен быть сильным, чтобы еще раз вынести это... Какой ужас! Ария окончилась. Бландини возвратила ему украшение. И Роланд спросил:
— Что я должен передать своему господину?
— Ничего, — ответила Бландини.
Голос ее дрожал, чего раньше никогда не было. Она смотрела на него умоляющим взглядом, как бы желая удержать его на сцене, а ему ведь нужно было идти. Он поклонился, дверь раскрылась, он сделал шаг назад — и опять, как в первый раз, началось:
— Браво!
— Роланд!
— Роланд!
— Браво!
Он стоял уже за сценой, около него теснились помощник режиссера и хористы. Молодой комик тоже был здесь.
— Верх искусства! — сказал он Роланду.
Подошел директор.
— Что это такое? Они, что, с ума сошли? Роланд, вы-то хоть понимаете, что это значит?
Роланд отрицательно покачал головой.
— Как же нам быть? — волновался директор. — Они всё хлопают. Ничего не поделаешь, придется вам выйти поклониться.
— Да, — сказал Роланд.
Он заметил, что все еще держит в руке венок, и хотел бросить его.
— Нет, возьмите, это производит эффект, — сказал директор. — На выход!
Двери распахнулись, и Роланд вышел на сцену. Крики «браво» усилились; к ним примешивался звонкий смех. Комик сказал директору:
— По-моему, это какое-то пари.
— Возможно, — ответил директор. — Так или иначе, у каждого когда-нибудь бывает бенефис.
Роланд вернулся за кулисы, двери закрылись. Он уронил венок и медленно направился в уборную. Несколько девиц из хора хотели шутки ради пожать ему руку, но он не заметил их и шел, бессильно опустив плечи. Вдруг кто-то остановил его сзади.
— Вам придется еще раз выйти, публика никак не успокаивается.
Роланд повернул обратно, вышел на сцену и низко поклонился. Казалось, он с таким юмором выдерживал роль, которую ему навязали, что смех в публике звучал все веселее и искреннее; в эту минуту он многим нравился. Вдруг в его сознании ожил тот сон, и он спросил себя, не пора ли наконец упасть на колени и воскликнуть: «О благородные люди, пощады! Пощады!» Но он знал: там, внизу, не знают пощады. И среди ликования и смеха, которые бушевали вокруг, он почувствовал себя в таком страшном одиночестве, что сердце у него замерло. Уходя, он бросил взгляд на Бландини. У нее стояли слезы в глазах, она смотрела куда-то мимо него. Наконец зал успокоился; директор похлопал Роланда по плечу и смеясь сказал:
— Бенефис.
За кулисами стояли наготове актеры, хористы, рабочие; им не терпелось продолжить здесь шутку, начатую зрительным залом; но Роланд прошел мимо, опустив голову, не видя и не слыша ничего. Медленно поднявшись по ступенькам, он прокрался по коридору, вошел в свою уборную и запер дверь. Щелкнул замок; внизу продолжался спектакль.
Молодые люди уже час сидели в Cabinet particulier[9] и ждали. Бландини все не было.
— Не придет она, — сказал Фред.
— Это исключено, — ответил Август, — мы вчера условились встретиться, а сегодня после обеда я написал ей еще раз.
— Знаешь, что я думаю? — заметил Эмерих.
— Ну? — спросил Август.
— Нам следовало бы Роланду...
— Перестань об этом говорить; шутка кончилась, зрители посмеялись, получили что-то новое, а теперь... все, хватит.
— Ладно, — сказал Эмерих. — Но мне кажется, нам не мешало бы завтра послать что-нибудь Роланду.
— Денег? — спросил Фред.
— Конечно, денег, так даже полагается. Ты не находишь, Густль?
— Это можно, — коротко ответил Август.
Фред смотрел в пространство. Все молчали. Вдруг Август встал.
— Я поеду.
— В театр? — спросил Эмерих.
— Нет, к ней. В театре ее сейчас, конечно, уже нет.
— Значит, по-твоему, все же не исключено, что она забыла о твоем приглашении?
— И что ты вечно пристаешь, — с досадой сказал Август, надевая зимнее пальто.
— Ты обязательно вернешься? — спросил Эмерих.
— Обязательно, и с нею. До свиданья.
Он быстро удалился. Ему пришлось идти мимо двери, которая вела к другим кабинетам; оттуда вслед ему несся вальс, скверно исполняемый на глухом фортепьяно каким-то совершенно немузыкальным человеком. Август вышел из ресторана. Было тихо, но не темно. От снега, покрывавшего улицу, исходило ровное матовое свечение. И снег продолжал падать — крупными, редкими хлопьями. Август Витте решил пройтись пешком; он чувствовал, что нервничает, и надеялся, что мягкая, светлая ночь успокоит его. За свое плохое настроение он склонен был возложить вину на Фреда, который своим неодобрительным, почти насмешливым видом с самого начала испортил ему вечер.
Но при всем желании он не мог, конечно, поставить Фреду в упрек то, что не приехала Бландини, — для этого должна была существовать какая-то другая причина. Она, видимо, рассердилась на него; ну и ладно. Впрочем, разве не этого он хотел? Ему бы никогда не пришло в голову выкинуть сегодняшнюю шутку, если бы на это не вызвала его сама Бландини, которая с некоторого времени принялась уверять, что у этого жалкого статиста самое интересное лицо, какое она видела на своем веку, и что у него, несомненно, больше таланта, чем у всех остальных актеров. Сначала она говорила это, вероятно, только в шутку; но когда Август неосторожно начал ей противоречить, она стала упрямо настаивать на своем, пока в конце концов не заявила, что в Августе просто говорит ревность. Это привело его в ярость. Он ревнует к господину Роланду! О, он отлично знал, к кому ее ревновать. С самого начала ему приходилось терпеть в качестве соперника молодого комика; тут уж ничего нельзя было поделать... но из-за этого Роланда он, право же, не собирался портить себе кровь. Август каждый раз давал себе слово больше не говорить о нем с Бландини — но стоило им встретиться, как через пять минут опять начиналась ссора. Он чувствовал, что это не умно; он сам толкал Бландини на то, чего давно боялся. Торопливо шагая теперь по улицам, он понял, чего боялся. Он знал, что придумал сегодняшнюю шалость не ради смеха и не ради того, чтобы доставить какую-то особую радость господину Роланду, хотя был твердо убежден, что тот обрадуется; нет, он втайне надеялся, что сделает этого актеришку смешным и уничтожит его в глазах Бландини, что она посмеется над забавной выдумкой Августа и они станут еще лучшими друзьями, чем раньше; он думал, что после этой шутки Роланд в глазах Бландини займет наконец подобающее ему место. До начала спектакля он воображал, что она в присутствии его друзей бросится ему на шею и, как в былые, счастливые времена, скажет: «Какая у меня все-таки милая, умная обезьянка!» Но уже в театре он заметил, что дело, кажется, начинает принимать совсем другой оборот, чем он предполагал. Когда после выхода Роланда раздался взрыв аплодисментов, Бландини метнула сердитый взгляд в ложу, где он сидел со своими друзьями; а когда Роланд ушел последний раз, она так растерянно посмотрела на дверь, через которую он вышел, что Август почувствовал, как в сердце его закипает гнев. И чем ближе он подходил теперь к дому, где жила Бландини, тем меньше скрывал от себя, что трепещет от страха... застать их вместе. Он ускорил шаг, — еще свернуть за угол — и вот он у ее подъезда. Это была одна из широких улиц за Рингом; кругом не было ни души. Он прислушался и услыхал приглушенный снегом шум приближавшегося экипажа; рука, собиравшаяся нажать звонок, замерла, и он стал ждать.